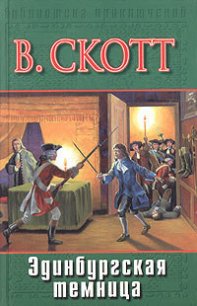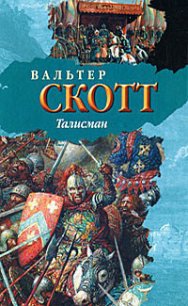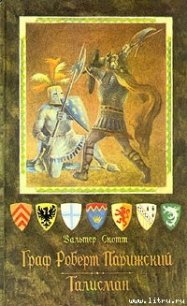Приключения Найджела - Скотт Вальтер (читать книги полностью без сокращений бесплатно .TXT) 📗
Глава XX
Поверь мне, друг, так было, есть и будет, —
Со дней далеких Ноева ковчега
Мужчина лжет, а женщина все верит —
И плачет, и клянет, и верит вновь…
Когда Маргарет вернулась с монной Паулой, леди Гермиона, встав из-за стола, за которым писала что-то на клочке бумаги, протянула записку своей служанке.
— Монна Паула, — сказала она, — отнесите это кассиру Робертсу. Возьмите у него деньги, о которых здесь говорится, и принесите их немедля сюда.
Монна Паула удалилась, а госпожа продолжала:
— Не знаю, хорошо ли я поступаю, Маргарет. Моя жизнь протекала в полном уединении, и я совершенно незнакома с ее практической стороной. И я знаю, что неведение это нельзя восполнить одним чтением. Боюсь, что, потворствуя тебе, я поступаю во вред тебе же, а может быть, и законам страны, давшей мне приют. И все-таки сердце мое не может не внять твоим мольбам.
— Слушайтесь его, только его, дорогая, великодушная леди! — воскликнула Маргарет, бросаясь на колени и обнимая ноги своей благодетельницы; в этой позе она напоминала прекрасную деву, взывающую к своему ангелу-хранителю. — Ведь людские законы всего только измышления самих людей, но голос сердца есть эхо голоса небес, звучащее в нашей душе.
— Встань, встань, моя милая, — сказала леди Гермиона, — ты растрогала меня, а я уже думала, ничто не способно меня тронуть. Встань и скажи мне, как могло случиться, что в столь короткий срок твои мысли, твоя наружность, слова и даже самые незначительные поступки изменились до такой степени, что ты больше непохожа на прежнюю капризную, взбалмошную девочку, — твои слова и поступки полны энергии и страстного воодушевления.
— Поверьте, я и сама не знаю, дорогая леди, — ответила Маргарет, опустив глаза. — Верно, раньше, когда я попусту проводила время, меня занимали одни пустяки. Теперь же я думаю о вещах глубоких и серьезных, и я очень рада, если слова мои и поведение ясно отражают мои мысли.
— Должно быть, это так, — промолвила леди, — и все же перемена кажется небывало быстрой и разительной. Как будто ребячливая девочка в мгновение ока превратилась в глубоко чувствующую, страстную женщину, готовую на решительные действия и на любые жертвы из слепой привязанности к любимому человеку, привязанности, в благодарность за которую с нами часто поступают самым подлым образом.
Леди Гермиона горько вздохнула, и разговор на этом прервался, ибо вошла монна Паула. Она что-то сказала своей госпоже на чужеземном языке, которым они часто пользовались, но который был неизвестен Маргарет.
— Придется набраться терпения, — сказала леди своей гостье. — Кассир отлучился по делам, но его ждут домой не позднее чем через полчаса.
Маргарет в досаде и нетерпении сжала руки.
— Я прекрасно понимаю, — продолжала леди, — что дорога каждая минута. Постараемся не потерять ни одной из них. Монна Паула останется внизу, чтобы выполнить мое поручение, как только Робертс вернется.
Она сказала несколько слов монне Пауле, и та снова покинула комнату.
— Вы так добры, мадам, так великодушны, — повторяла бедная Маргарет, между тем как ее дрожавшие от волнения губы и руки выдавали ту тревогу, от которой сжимается сердце, когда отдаляется срок осуществления наших надежд.
— Имей терпение, Маргарет, возьми себя в руки, — сказала леди. — Тебе предстоит многое сделать, чтобы привести в исполнение твой смелый план. Сохраняй бодрость духа, она еще очень понадобится тебе. Имей терпение, оно единственное средство против жизненных невзгод.
— Да, мадам, — сказала Маргарет, вытирая глаза и делая тщетные попытки сдержать природную нетерпеливость, — я слыхала это, и даже очень часто. Я и сама, да простит мне бог, говорила то же самое людям, находившимся в смятении и скорби. Но тогда я не знала, что такое заботы и огорчения. Зато я никогда не стану проповедовать терпение теперь, когда убедилась, что лекарство это не идет впрок.
— Ты еще переменишь свое мнение, милая, — сказала леди Гермиона. — Я тоже, впервые испытав горе, досадовала на тех, кто призывал меня к терпению. Но мои несчастья повторялись снова и снова, пока я наконец не научилась смотреть на терпение как на лучшее и — если не считать религии, которая прежде всего учит терпению, — единственное средство облегчить страдания, даруемое нам жизнью.
Маргарет, которая не была ни бестолковой, ни бесчувственной, поспешно вытерла слезы и попросила прощения за дерзость.
— Я могла бы сообразить, — сказала она, — я должна была догадаться, что ваш образ жизни достаточно говорит о перенесенных вами страданиях. Бог свидетель, что ваше неизменное терпение дает вам поистине полное право ссылаться на собственный пример.
Леди помолчала мгновение, а затем проговорила:
— Маргарет, я намерена оказать тебе величайшее доверие. Ты уже не ребенок, а думающая и чувствующая женщина. Ты раскрыла мне свою тайну настолько, насколько сочла возможным; я открою тебе свою, насколько отважусь. Ты спросишь, быть может, почему именно в то время, когда ты так взволнована, я требую от тебя внимания к моим горестям. А я отвечу, что не могу противостоять внезапному побуждению потому, должно быть, что впервые за три года мне пришлось столкнуться со свободным проявлением человеческой страсти, при виде которой пробудились мои собственные горести и, переполняя мою грудь, ищут выхода. А может быть, видя, как неудержимо тебя мчит на ту скалу, о которую когда-то разбилась я сама, я возымела надежду, что тебя остановит повесть, которую я сейчас расскажу. Итак, если ты готова выслушать меня, я поведаю тебе, кто такая в действительности унылая обитательница покоев Фолджамб и почему она здесь скрывается. По крайней мере это поможет нам скоротать время в ожидании монны Паулы с ответом от Робертса.
При других обстоятельствах Маргарет Рэмзи почувствовала бы себя польщенной и была бы целиком захвачена рассказом о том, что возбуждало такое сильное любопытство в окружающих. Даже и в эти волнующие минуты, не переставая с бьющимся сердцем нетерпеливо прислушиваться, не донесутся ли шаги монны Паулы, Маргарет из благодарности и вежливости, а также некоторой доли любопытства, принудила себя с глубочайшим, хотя бы с виду, вниманием слушать леди Гермиону и смиренно поблагодарила ее за оказанное ей высокое доверие.
Леди Гермиона с обычным спокойствием, отличавшим ее манеры и речь, начала свой рассказ:
— Отец мой был купцом, но родом происходил из того города, где купцы считаются князьями. Я родилась в благородной генуэзской семье, которая по славе своей и древности не уступает любому роду, внесенному в Золотую Книгу именитой итальянской аристократии. Моя матушка принадлежала к знатной шотландской фамилии. Она была в родстве — не удивляйся, — и притом не слишком отдаленном, с домом Гленварлохов. Не мудрено поэтому, что судьба молодого лорда внушила мне такое участие. Он мой близкий родственник, а моя мать, неумеренно гордившаяся своим происхождением, с детства приучила меня интересоваться всем, что касается нашего рода. Мой дед по материнской линии, младший сын в семье Гленварлохов, решил разделить судьбу несчастного Фрэнсиса, графа Босуэла, и последовал за ним в изгнание. После того как граф перебывал почти при всех иностранных дворах, пытаясь вызвать сочувствие к своей жалкой участи, он в конце концов обосновался в Испании и жил там на скудную пенсию, которую заслужил своим переходом в католичество. Мой дед, Ралф Олифант, с негодованием отрекся от него и перебрался в Барселону, где на его еретическое, как там говорили, вероисповедание смотрели сквозь пальцы благодаря его дружбе с губернатором. Торговые дела моего отца вынуждали его жить больше в Барселоне, чем в своем родном городе, хотя по временам он и наезжал в Геную. Там же, в Барселоне, он познакомился с моей матушкой, полюбил ее и женился на ней. Они исповедовали разные веры, но одинаково крепко любили друг друга. Я была их единственным ребенком. Официально я соблюдала догматы и обряды римской церкви, но моя мать, относившаяся к ним с отвращением, потихоньку воспитала меня в духе реформизма. Отец мой, то ли равнодушный к вопросам религии, то ли не желавший огорчать нежно любимую жену, снисходительно относился к тому, что я тайно присоединилась к ее вере. Но когда, находясь еще в расцвете лет, мой отец, к несчастью, заболел какой-то медленно подтачивавшей его силы и, как он догадывался, неизлечимой болезнью, он задумался над тем, каким опасностям подвергнутся в столь фанатично приверженной к католицизму стране, как Испания, его вдова и дочь, когда его не станет. Поэтому в последние два года своей жизни он поставил себе задачей обратить в деньги и переправить в Англию большую часть своего состояния, что и было с успехом выполнено благодаря честности и верности его английского корреспондента — того превосходного человека, чьим гостеприимством я ныне пользуюсь. Проживи мой отец немного дольше, он успел бы довести до конца начатое, изъять из торговли все деньги, отвезти нас в Англию и перед смертью убедиться, что мы окружены почетом и ничто не угрожает нашему покою. Но бог решил иначе. Отец умер, оставив не одну крупную сумму денег в руках испанских должников; в частности, он поручил продать большую партию дорогих товаров богатой компании в Мадриде, а та после его смерти не выказала никакого желания рассчитаться с нами. Видит бог, мы с радостью оставили бы этим мерзким, алчным людям их добычу, — а именно как добычу рассматривали они собственность своего покойного корреспондента и друга, Денег, ожидавших нас в Англии, вполне достало бы на то, чтобы жить с комфортом и даже роскошно, но друзья убеждали нас, что было бы безумием позволить этим бессовестным людям украсть нашу законную собственность. Сумма была действительно велика, и, возбудив иск, моя матушка считала себя уже обязанной перед памятью отца настаивать на нем, тем более что для оправдания своих действий торговая фирма пыталась подвергнуть сомнению честность отца в этой сделке.