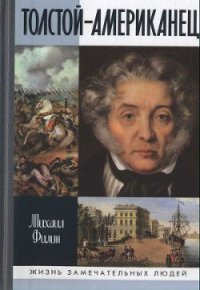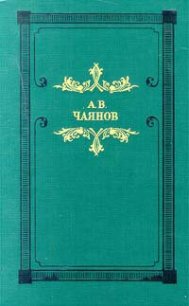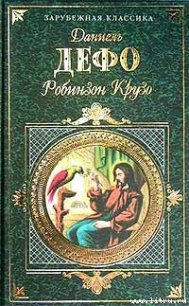American’eц (Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого) - Миропольский Дмитрий
— Конечно-конечно, — согласился Эспенберг и заговорил так ласково, как обычно врачи говорят с больными: — Только сперва послушайте меня. На Тенерифе вы едва не утонули. В Бразилии были ранены и не успели оправиться, напоследок ещё схватившись с пиратами. Путь на Нуку-Гиву вкруг Америки через мыс Горн оказался тяжёлым для всех, но для вас особенно…
— Какого чёрта?! — возмутился граф, но доктор спокойно продолжал прежним ласковым тоном:
— …и на острове вы снова участвовали в сражении, да ещё эта изнуряющая жара, да ещё татуировка, непривычная пища… и всё прочее. Сложно сказать, чем вас опоили дикари, — он произнёс несколько латинских слов, — но нет ничего удивительного в том, что в результате небрежения к своему здоровью у вас в конце концов случился тяжёлый обморок. По счастью, рядом оказался мой английский коллега…
— Какого чёрта?! — снова рявкнул граф. — Обморок. Я не барышня, чтобы в обмороки падать! Этот ваш коллега мне голову проломил! Они с Резановым в сговоре!
— Ваше сиятельство, — голос Эспенберга стал строже. — Николай Петрович беспокоится о вас больше других, несмотря на собственное скверное самочувствие. Он распорядился относиться к вам с особым вниманием до тех пор, пока вы окончательно не оправитесь. Насколько я могу судить, рассудок ваш ещё не вполне прояснился. Поэтому прошу вас успокоиться и день-другой полежать, а пока…
Доктор с неожиданной ловкостью шмыгнул прочь из каюты и захлопнул за собой дверь, продолжая говорить снаружи:
— Пока я вынужден принять некоторые меры предосторожности.
Фёдор Иванович вскочил и бросился к двери. Она оказалась запертой.
— Откройте немедленно! — потребовал граф. — Откройте, или я вышибу эту чёртову дверь! Откройте, говорю вам!
Ему никто не ответил, и он несколько раз ударил плечом в дверь. Она не поддавалась.
— Я убью вас!.. А потом Резанова!.. Ну погодите же…
Фёдор Иванович обшарил каюту, но вопреки ожиданию не нашёл никакого оружия — ни шпаги, ни сабли, ни пистолетов. Очевидно, заботой Николая Петровича всё, вплоть до кинжала, которым граф не так давно собирался защищать камергера от моряков, было убрано от греха подальше. Не нашлось и огнива — мелькнувшую было шальную мысль о поджоге тоже пришлось оставить. Из одежды граф обнаружил только исподнее.
— Вот ведь скотина! — в яростном восхищении молвил он, со всей силы саданув кулаком в переборку. — Обо всём позаботился!
Дав волю чувствам, Фёдор Иванович призвал на помощь обычную свою рассудительность, надел бельё и завалился на постель в раздумьях. Что знает он к этому часу? Что Резанов состоит в некоем преступном сговоре с британцами, но подробности сговора графу неизвестны. Узнать их можно только от самого Резанова, допросив его с пристрастием, — и это невозможно: камергер имеет полномочия государева посланника и делит с Крузенштерном начальство над экспедицией. Слушать Толстого никто не станет, поскольку все уверены в его болезни, происходящей от ран и отравления на Нуку-Гиве. Дикарские татуировки во всё тело — лучшее свидетельство помутнения рассудка Фёдора Ивановича. Никто не поверит в злой умысел британского врача, который оглушил графа ударом по затылку, — всем известно про тяжёлый обморок. И в рассказ о разговоре, подслушанном за минуту до обморока, тоже веры не будет.
Что же остаётся?
— Эй! Кто меня слышит? Эй! — кричал Фёдор Иванович и барабанил в дверь. — Позовите капитана! Я хочу говорить с капитаном!
За дверью слышался топот и шушуканье, но Крузенштерн пришёл не сразу, а на пороге каюты остановился с пригнутой головой: низкий подволок не позволял распрямиться во весь рост.
— Ваше сиятельство, — сказал капитан, глядя исподлобья, — я готов выслушать вас, но прежде должен предупредить, что за дверью наготове ждут люди, которым велено в случае необходимости применить к вам силу. Посланник предлагал связать вас и держать в таком состоянии до самого прибытия в Камчатку и окончательного выздоровления. Я этому воспротивился. Прошу не вынуждать меня делать то, чего я делать совсем не желаю. Вы человек чести. Мне достаточно вашего слова в том, что вы будете вести себя разумно.
Фёдор Иванович выслушал эту речь, стоя в дальнем от двери конце каюты — всего в сажени от Крузенштерна.
— Даю слово, — ответил он.
Капитан прикрыл дверь.
— Теперь я вас слушаю. Что вам угодно?
Граф сел в изголовье постели, указав Крузенштерну место напротив, чтобы тот мог держаться прямо, и отчеканил, глядя капитану в глаза:
— Прошу вас передать господину Резанову мой вызов. Мне угодно драться с ним и убить.
Крузенштерн вздохнул.
— Вы только что дали слово вести себя разумно. По всей видимости, мы с вами по-разному это понимаем. Я имел в виду соблюдение порядка на моём корабле. К тому же вам, без сомнения, известно, что дуэли на флоте запрещены под страхом смерти. Если вы попытаетесь драться с Резановым, или низложить его, или другим образом поднять бунт, — я тотчас же отдам вас под суд, а в определённых обстоятельствах велю вздёрнуть на рее. Тогда вашему сиятельству не помогут ни титул, ни та искренняя симпатия, которую я к вам питаю. На моём корабле будет порядок и ещё раз порядок. Ordnung und ordnung noch einmal, — жёстко повторил он по-немецки для пущей убедительности. — Но пока вы держите себя в руках, мы с вами союзники… Желаю вашему сиятельству здравствовать!
С этими словами капитан поднялся и вышел из каюты.
— Одежду верните! — вслед ему крикнул Фёдор Иванович…
…и уже к вечеру самозабвенно дрессировал макако-аранью, которую велел переселить в свою каюту и запретил кому-либо подкармливать. Обезьянке приходилось теперь самой добывать еду, спрятанную в ларце с бумагами. Через несколько дней мохнатая соседка Фёдора Ивановича наловчилась: чувствуя голод, она привычным движением откидывала крышку ларца, вываливала оттуда бумаги и доставала со дна лакомство. И ещё одной забаве граф обучил смышлёного зверька — вываленные бумаги драть в клочья и поливать чернилами.
Никто на корабле не знал об упражнениях Фёдора Ивановича. Спутники считали, что здоровье графа в самом деле идёт на поправку. Покидая каюту для обеда или прогулки, он привязывал обезьяну внутри, а с другими путешественниками, включая Резанова, вёл себя как ни в чём ни бывало: раскланивался, обменивался малозначительными фразами — и спешил опять уединиться.
Гром грянул, когда в один из дней Фёдор Иванович дождался, пока Резанов покинет свою каюту, и запустил туда дрессированную макаку. До тех пор он сутки не кормил бедное животное. Оголодавшая обезьяна первым делом полезла в ларец с бумагами Николая Петровича в расчёте добыть себе пропитание. Не обнаружив еды, она в ярости растерзала и полила чернилами найденные документы. Правда, и бумагам Крузенштерна тоже изрядно досталось. Это не входило в коварные планы графа, однако управлять своей посланницей он уже не мог, а перегородка посреди капитанской каюты оказалась для неё лёгким препятствием.
Камергер и капитан рассвирепели не хуже макаки. Резанов сгоряча пригрозил убить животное, но поостерёгся пойти дальше угроз, когда граф снова укрыл преступницу в своей каюте. Если даже посланник и подозревал Фёдора Ивановича в злом умысле, доказать столь хитроумные намерения было невозможно. Тем более владелец обезьянки принёс пострадавшим свои извинения и предложил собственноручно переписать испорченные листы, если ему их выдадут, буде свободного времени имел в достатке. Крузенштерн ответил согласием, а Николай Петрович лишь скрежетал зубами: конечно же, показывать британские инструкции ни Толстому, ни ещё кому бы то ни было он не собирался.
Демарш Фёдора Ивановича вывел камергера из равновесия, и Резанов снова приступил к Крузенштерну с требованием идти прежде в Японию, а уж потом в Камчатку. Он полагал, что для решающего разговора выбрал удачное время: капитан готовился сделать запланированную остановку на Сандвичевых островах, и начальство экспедицией снова должно было перейти к посланнику.