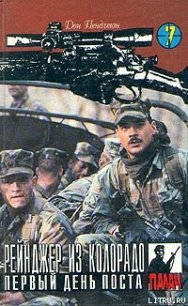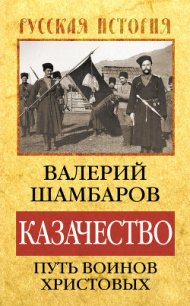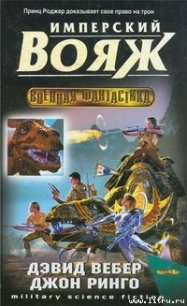Имперский раб - Сосновцев Валерий Федорович (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
– Потому и побеждает непременно! – назидательно сказала царица. – Прежде противника изучает со всех сторон, потом уже громы мечет. С умом… Это ведь со стороны видятся слава да легкость – за всем этим реки пота!
Дверь в кабинет тихо отворилась, вошел лакей и молча поклонился. Подошел к царице, что-то шепнул ей на ухо. Екатерина кивнула и сказала:
– Ну вот, теперь я должна иным делам империи себя посвятить! – Она вздохнула. – Но тебя, Ефрем, до отъезда твоего со светлейшим в Таврию я еще поспрашиваю. Пока же оставляю тебя на попечение этих двух славных мужей.
Императрица пошла к двери, подданные проводили ее глубоким и долгим поклоном. Неожиданно царица остановилась, повернулась и сказала:
– Вот что я вдруг подумала. Пусть Ефрем издаст книгу о своем путешествии. Под вашим, господа, надзором и попечением… Денежным, конечно.
Потемкин, канцлер и Ефрем удивленно переглянулись и воззрились на нее.
– Да-да! – обратилась она к Ефрему. – Только опиши там все так, чтобы никто не смог узнать ни дорог тамошних, ни путей туда. Пиши, что был там, что видел, а как добраться туда и, главное, как выжить там, не говори.
– Но, матушка… – начал было Потемкин. Екатерина перебила:
– Пущай англичане нервничают, узнав, что мои люди ходят там, куда они только мечтают попасть. Взбешенные, они больше ошибок наделают, а мы лучше узнаем их намерения… И еще, – обратилась снова к Ефрему, – про путешествие по ихним островам только упомяни. Пусть гадают, что ты там мог выведать… Ну, прощайте! Дела…
Она повернулась и вышла. Ее подданные стояли в поклоне, пока не закрылась за государыней дверь. Тут же Потемкин, улыбаясь, заявил Ефрему:
– Ну, имперский раб-дворянин, поедешь со мной помощником моим?
– Хотелось бы прежде дом свой повидать и родителей, ваша светлость.
– Непременно, непременно, дам тебе отпуск сразу за все твои девять лет рабства.
Безбородко все это время улыбался, изображая на лице радостное внимание ко всем присутствующим – не поймешь сразу, что у хитрого бывшего свинопаса на уме.
– Сейчас мы с тобой, Ефрем Сергеич, в мои покои пройдем. Там уж наговоримся всласть! – неожиданно объявил Потемкин. – Мне все любопытно. Не возражаешь, господин канцлер?
– Как можно, Григорий Александрович! Ваше детище – вам и распоряжаться! – Во все лицо улыбался канцлер.
Потемкин шел по залам Зимнего дворца как хозяин. Он держал Ефрема дружески, под руку. Честь крайне редкая. Придворные, кто с любопытством, кто с завистью, кто в оторопи взирали, как светлейший полувластелин России высоко вознес какого-то бусурманина. Послышались торопливые перешептывания сплетников. Один из таких ретивцев вовсе увлекся. Повернулся к своим слушателям и, не заметив, что князь уже близко, довольно громко излагал:
– Светлейший магометову веру из этого бусурмана вышибает, не иначе!.. Да, да, господа, можете мне верить. Я-то знаю, что князь Потемкин в юные годы мечтал о священническом сане…
Слушатели делали ему знаки глазами, шикали, но болтун уже разошелся, ничего не замечал и продолжал:
– Уверяю вас, господа, что он решил окрестить этого турка. Вы сами посмотрите, где светлейший всю свою карьеру воюет? Ну! Против магометан!
– Гм! – нарочно громко кашлянул позади сплетника Потемкин.
И, о чудо! Ефрем едва не расхохотался. Шаркун мигом умолк, не глядя развернулся и глубоко поклонился проходившим мимо Потемкину и Ефрему. Князь с веселой улыбкой сказал своему спутнику:
– О как, брат Ефрем! Ты таких кульбитов небось и не видывал нигде?
Ефрем засмеялся, впервые без осторожности, откровенно и ответил:
– Они везде примерно одинаковые… Словно одной матери дети.
– Да ну?! – воскликнул князь Потемкин. – А я-то грешным делом думал, что наши шаркуны всех перещеголяли! Ведь этот болван и вправду думает, что мы не с государствами войны ведем, а с религиями!.. Э-э-эх, когда же доморощенные дураки-то переведутся!.. И ведь смотри, нам своих-то мало. Мы их еще из-за моря выписываем! Как думаешь, Ефрем, переведутся когда-нибудь дураки-то, хотя бы наши, а?
Ефрем, улыбаясь, ответил:
– А тогда, ваша светлость, умных невозможно будет заметить. Надо, чтобы и дураки были. Самая малость! Это как небо без тучек – усыпляет.
– Думаешь? – весело спросил князь. И сам себе ответил: – Ну, этой пропажи мы, я чаю, не скоро хватились бы. Но, по всему видать, нам это долго не будет угрожать! Ладно, Бог им судья, а нас дела ждут!
Они ушли в покои светлейшего князя, и Ефрем долго еще рассказывал любознательному вельможе о виденном и пережитом за девять лет своих странствий. Потемкин слушал, смотрел на Ефрема и вдруг подумал:
«Поди же ты! Если бы не шрамы на его лице – ни в жизнь не догадаться стороннему, как не прост сей человек. А что шрамы? Иная разбойная рожа так расписана, что жуть! Ковырнешь – душонка с ноготок! А этот? Пройдешь мимо – только на рост и глянешь. Сразу и не разглядишь, что духа в нем на весь свет хватит… А карьеры себе громкой, коль не заставить его, он не сделает. Нет, не сделает… Эх-хе-хе!.. Громаду дел переделает, а помрет – пожалуй что и правнуки не вспомнят. Не то чтобы со славой, а просто в поминание, в благодарность!.. Э-эх, судьбина! А жаль! Нынче люди всего более почитают блеск, гром литавр да пышные славословия… Про долг-то, про муки во благо потомков не долго помнят… Нудно, видишь ли… Опять же – корысти в той памяти маловато!..»
В январе 1784 года Ефрем наконец увидел вновь своих родителей. Впервые с тех пор как ушел в тринадцать лет служить в армию.
Ефрем увидел свою постаревшую мать, и сердце у него сжалось. Он опустился перед ней на колени, припал к ее рукам, уткнулся лицом в ее ладони, целовал их и тихо плакал. Рядом стоял отец и, молча, утирая платком глаза, гладил побелевшие волосы сына. Они дождались, дожили, успели…
– Чадушко мое, – шептала мать, окая, – сколь годков-то я не видала тебя?.. Вон и седой уж ты… Подумать только – двадцать лет минуло, как стал ты служить-то! – ласково говорила она, не замечая тихих своих слез.
Ефрем поднялся, стал целовать ее лицо, не мог наглядеться на нее, вытирал ее слезы и шептал только одно:
– Матушка моя! Матушка…
Наконец, оторвавшись от матери, он обнял отца и долго не отпускал его. Мужественный старик только кряхтел, чтобы не разрыдаться в голос.
Рассказы Ефрема, хоть и были скупы, все же потрясли родителей. Мать было принялась отговаривать его от новой службы, но отец, гордый высокой наградой сына, сказал:
– Как ни горько чадо свое отрывать от себя, но помнить следует – государева служба не прихоть, а надобность! Не сохранишь Дедчину – значит, потеряешь и Отчину… Тогда и всему роду-племени пропасть! Терпеть надо и служить… А пока отдыхай, сынок, – заслужил!.. Мать тебя запестует небось за все двадцать лет.
Полгода нежился Ефрем в родительском доме, до середины лета. Но настало время, прискакал нарочный. Светлейший Потемкин звал на службу.
И вот новоиспеченный дворянин Российской империи, коллежский асессор Ефрем Сергеев Филиппов, по поручению светлейшего князя Таврического Григория Александровича Потемкина, отправился на кавказскую линию. Не было человека в то время в распоряжении светлейшего лучше, чем Ефрем, знавшего не только восточные и иные языки, но и суть народов азийских.
По пути к месту новой службы, на одной большой почтовой станции с трактиром, довелось Ефрему ужинать в компании армейского офицера. Станция была на стыке нескольких дорог, потому проезжающий люд здесь был пестрый. В просторном станционном дворе уместились и господские кареты, и фельдъегерские возки, купеческие и почтовые кибитки. За воротами табором разместились возы с товаром оборотистых российских людей. Меж телег и возов вперемежку с кучерами и приказчиками бродили нищие, потихоньку сбиваясь в серую, грязную кучу перед воротами.
Стояла жара и духота как перед грозой. Посему в станционной избе дверь из барских покоев распахнули настежь. Видна была обширная горница с затертыми до сального блеска столами и лавками. Там сторожко, вечно начеку пили чай лакеи и кучера. По соседству с ними, но за отдельным столом, таким же обшарпанным, горячили себя водочкой купчишки. Эти хоть и косились порой на барскую половину, но все больше с проныристым любопытством, чем с боязнью. Мошна, она какая ни есть, а все же придает бодрости. Каждому, конечно, своей, по весу этой самой мошны. Распаренные чаем и водкой, смекалистые людишки слабели на язык и ноги, зато крепчали на глотку и расправлялись грудью.