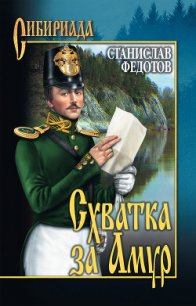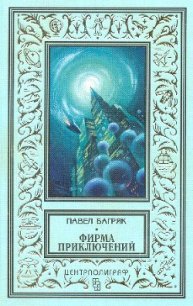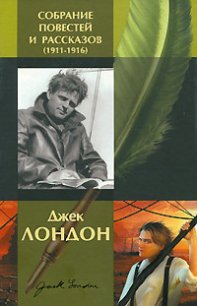Благовест с Амура - Федотов Станислав Петрович (бесплатные версии книг TXT) 📗
Муравьев был доволен угощением и отдыхом: он, вообще-то, за последние перед отплытием недели изрядно устал, поэтому позволил себе пару лишних рюмок вина и сейчас расслабленно радовался хорошему дню, яркой весенней природе и отсутствию серьезных происшествий.
Несерьезные — были, но их последствия старались быстро исправить своими силами, не привлекая внимания начальства.
Обед с отдыхом незаметно перетек в ужин, а там и в ночлег.
Молодой секретарь Муравьева по дипломатической части Николай Дмитриевич Свербеев (сын старого дипломата, он после окончания Лицея служил чиновником по особым поручениям в Якутском областном правлении, там его приметил Струве, временно исправлявший должность областного начальника, приметил и рекомендовал Муравьеву для открывшейся вакансии секретаря), не утративший юношеского романтизма, так описывал свои впечатления от этого ночлега: «…Когда совсем уже стемнело, засветились огоньки на левом и правом берегах, задымились солдатские котлы, и денная суета, шум и хлопоты уступили место тишине, изредка прерываемой окликом часового. Не забуду я этой чудной майской ночи, Усть-Карийского привала и целого этого дня, столь полного радостными впечатлениями, столь увлекательного ожиданием дальнейшего плавания по краю неизвестному, о котором так много толковали в Сибири и которого между тем никто не видал воочию».
Знал бы он, чем обернется всего лишь через полгода этот привал для его рекомендателя, к которому он питал искреннюю симпатию!
Зато отлично знал, что делает и чем это может обернуться для того же лица горный начальник Нерчинских заводов — инженер-подполковник Иван Евграфович Разгильдеев, когда во время ужина ненавязчиво наговаривал генерал-губернатору о предвзятости ревизии Усть-Карийского промысла Бернгардом Васильевичем Струве. Он, Разгильдеев, всего лишь стремился к наведению порядка на приисках, порядка, без которого не могли быть добыты те 106 пудов золота, что так пришлись по душе его императорскому величеству. (И за которые генерал-губернатору была объявлена высочайшая благодарность. Но Разгильдеев об этом даже не заикнулся, хотя, разумеется, знал.) А Струве, по молодости лет, по благородному юношескому стремлению всех защитить, собрал жалобы тех, кому не нравился установленный Разгильдеевым порядок, и обвинил его в произволе. А какой же это произвол, если наказываются смутьяны и наказываются по закону? Да, некоторых пороли, ну так что ж, спускать, что ли, противодействие власти? За это никто по головке не гладит, а пример строгости, при всем своем безграничном человеколюбии, показал государь император. Зачинщики мятежа на Сенатской справедливо получили полной мерой, а из остальных скольким были всяческие послабления — и по условиям каторги, и по срокам, и по местам поселения. А он, Разгильдеев, только порол и только за большие провинности. Вот взять хотя бы пьянство. Приказано было — в рабочее время не пить, а они с утра — чуть не в усмерть!
Слышал, нет ли инженер-подполковник про тульские порки пьянчужек, но попал в точку. Муравьев покраснел и спросил, выпрямляясь в кресле, в котором сидел у походного столика:
— И что, они тоже жаловались?
— Жаловались, Николай Николаевич, — вздохнул Разгильдеев, скромно опуская глаза.
— И Струве принимал их жалобы?
— Целую папку собрал!
— Ладно, Иван Евграфович. Вернусь из похода — там посмотрим.
Несмотря на трудности сплава и события, связанные с войной, Муравьев не забыл этого разговора; к нему прибавились некоторые недочеты в управлении Бернгардом Васильевичем Якутской областью — о них генералу доложили, когда он через Якутск возвращался домой, — все это вместе вызвало у Муравьева сильнейшее раздражение и по приезде он не принял Струве с докладом о делах в Иркутской губернии (молодой чиновник управлял ею, пока Венцель замещал генерал-губернатора). Бернгард Васильевич понял, что впал в немилость, и не стал искушать судьбу: сказался больным и подал рапорт об отставке. А вскоре покинул Восточную Сибирь.
Екатерина Николаевна пыталась образумить мужа, но тот закусил удила и не захотел менять гнев на милость. Как говорил сам Струве, генерал-губернатор не простил ему, что он, рядовой чиновник, не дал себя оскорбить.
В Усть-Стрелку пришли поздно вечером. Здесь намечено было подождать отставших. Отставали чаще всего из-за неожиданных мелей: половодье сильно изменило картину фарватера и даже опытные лоцманы и кормщики допускали ошибки, загоняя свои суда на залитые водой берега. И тогда, как добродушно выражались жертвы этих ошибок, приходилось до седьмого пота корячиться, стаскивая и сталкивая баржу или павозок с мели.
Плотам легче: они проходили там, где глубина была всего-то по колено. Столь же просто вели себя все плоскодонные посудины с малой осадкой: не теряй управления, не позволяй вихревому течению себя закрутить, не подставляй бока бойцам, вроде Черного Куцана, — и все будет, как надо. Конечно, чтобы выполнить все эти «не», и рулевые, и гребцы ухряпывались до полного изнеможения, но если гребцы менялись довольно часто, то кормщиков не хватало, сменять их было некому, и к вечеру, вконец измочаленные, они просто не могли стоять на ногах. Не спасало и выделение им помощников — среди них мало находилось толковых, перенимающих опыт, больше использовалась их грубая сила.
Население станицы высыпало на берег Шилки посмотреть на чудо чудное — павозок, по бортам которого крутились огромные колеса, загребая воду, а из высоченной трубы, торчащей над палубными постройками, валил густой дым. Когда Стибнев, следуя правилу подхода к причалу (которого, кстати, не было), огласил реку ревом парового гудка, бабы и ребятишки шарахнулись от Шилки и бежали до самой Аргуни, на другую сторону станицы. Казаки же проявили завидную храбрость: они лишь попятились, крестясь и матерясь. Когда с борта матросы им бросили носовой и кормовой концы, прося подтянуть пароход к берегу, они сначала с неохотой, а потом дружно так потянули, что едва не поломали колесо о береговую отмель.
Убежавшие вскоре вернулись — в основном ребятня — и не отходили от парохода до поздней ночи. Бабы же поспешили к своим избам: им надо было собирать в поход мужей и старших сыновей. Станичный атаман Кирик Богданов уже всех известил, что Усть-Стрелка должна выставить в поход сотню казаков под командованием есаула Имберга. Сотня набиралась еле-еле, и Кирик Афанасьевич обрадовался, когда Герасим Устюжанин, с зимы живший в Усть-Стрелке, предложил записать его в казаки и отправить в поход.
— А как же твой договор с Машаровыми? — для порядка спросил станичный атаман.
— А он у меня бессрочный, — беззаботно сказал Герасим. — Из похода вернусь — много больше расскажу.
— И то верно. Но в реестр тебя занесть — права такого не имею.
— А неважно! Ружье у меня есть, сабля, думаю, у вас найдется, а припасов дадите.
— Лады! С Имбергом и Скобельцыным я договорюсь.
Так Вогул стал казаком.
К утру 18 мая караван собрался полностью; с Аргуни пришло известие, что и та малая часть, что шла от Цурухайтуя, тоже на подходе, в нескольких верстах.
Усть-Стрелка, где и усадеб-то было чуть больше сорока, бурлила народом. Муравьев приказал оркестру с раннего утра играть веселую музыку, чтобы подбодрить и путешественников, и местное население, которое со слезами провожало в поход почти всех мужчин и парней. Скобельцын отобрал из них десяток лоцманов, знающих Верхний Амур хотя бы до Кумары [53], и распределил их по судам. Оставшимся девяноста отдали плашкоут № 13, переселив шамшуринскую полуроту на плоты. «Переселенцы» радовались, как дети: им уже до смерти надоело грести, кое у кого на руках набухли кровавые мозоли, на плотах же надо было работать лишь на рулевых веслах. Тоже не сахар, но все-таки несравнимо легче.
Особенно повезло Гриньке с Кузьмой: они попали на плот, где находился Степан Шлык. Все трое долго обнимались и тут же договорились устроить маленький пир — сразу, как только караван отойдет от станицы. Парни отпросились у хорунжего Эпова и сбегали на берег за свежим мясом. Гринька раздобыл лосиную ляжку, а Кузьма сверх того притащил на горбу полмешка картошки.