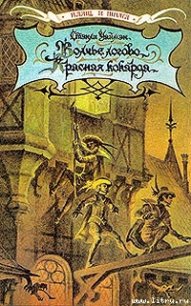Французский дворянин - Уаймэн Стэнли Джон (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Часть вторая
Святая Лига и два Генриха
ГЛАВА I
Что люди называют удачей
Если бы я хотел преувеличить то, что было, или вымыслом приукрасить свои приключения, то, при некоторой доле изобретательности, я мог бы заставить вас подумать, будто я своим освобождением из сетей отца Антуана обязан самому себе, и рассказал бы историю всевозможных приключений, достойную пера самого Брантома [101]. Но, не имея ни желания, ни повода возвеличивать себя, я должен сознаться, что случилось как раз обратное. В то время, когда я меньше всего работал над своим освобождением, мой противник наверно погубил бы меня, если б не странное стечение обстоятельств, в котором ясно была видна рука Провидения.
Три дня, данные мне попом, я провел в напрасных размышлениях о средствах к спасению. Немалым для меня горем было то, что я был обречен на полное бездействие: Рамбулье был ярым католиком, хотя и большим патриотом, я был сам свидетелем влияния попов на Ажана. Идти же прямо к королю мне не хотелось по многим причинам. А мои личные средства были очень ограничены, и изобретательность мне изменяла. Оставалось рассчитывать только на свой меч да на Симона Флейкса. Зная, что мне придется покинуть Блуа, если удастся мое дело, я не счел унизительным обратиться к Симону. Я живо описал ему угрожавшую нам опасность и всячески убеждал его придумать что-нибудь.
– Теперь, мой друг, настало время, – говорил я, – проявить ваш ум и оправдать мнение Рони, считающего вас изобретательнее всех…
Я остановился, ожидая ответа, но он сидел молча, опершись головой на руки и уставившись глазами в одну точку. Я стал уже раскаиваться и пожалел, что разрешил ему сесть, я счел нужным напомнить ему, что он служит под моим начальством и обязан повиноваться.
– Хорошо! – сказал он сурово, не поднимая глаз. – Я готов повиноваться. Но я не люблю попов, а этого в особенности: я его знаю и не хочу иметь с ним никакого дела. Я боюсь его – я ему не ровня.
– Значит, Рони был неправ? – сказал я, не сдерживая более своего гнева.
– Да, если хотите, – отвечал он нахально.
Это было уж слишком. Я схватил хлыст и принялся так хлестать его, что он живо образумился. Наконец он попросил пощады, впрочем не скоро: он был вообще упрям и сделался еще упрямее после своего отъезда из Рони..
– Неужели ты думаешь, – сказал я ему тогда, – что я должен погибать только потому, что тебе лень пошевелить мозгами? Что ж, я буду сидеть и смотреть, как ты дуешься, в то время как мадемуазель идет на верную гибель?..
– Мадемуазель! – воскликнул он, взглянув на меня и вдруг изменившись в лице. – Ее здесь нет и ей ничто не угрожает.
– Она завтра или послезавтра будет здесь.
– Не говорите мне этого! – воскликнул он, сверкая глазами. – Отец Антуан знает об этом?
– Он узнает, как только она въедет в город.
Заметив происшедшую в нем перемену при упоминании о девушке, я почувствовал раскаяние; но я должен был пользоваться тем оружием, которое было под рукой. В один миг мы поменялись ролями. Насколько Симон был возбужден, настолько я оставался хладнокровен. Когда он подошел ко мне, я был поражен странным сходством его с монахом. Мое удивление возросло, когда он произнес слова, которые я мог ожидать только от Антуана.
– Есть одно только средство, – пробормотал он, дрожа. – Его надо устранить.
– Это легко сказать, – возразил я презрительно, – Это было бы возможно, будь он солдатом, но священники, мой друг, не дерутся.
– Драться? Да кто же будет с ним драться? – ответил он, нахмурясь и беспокойно размахивая руками. – Можно сделать гораздо проще: удар в спину и – готово.
– Но кто же это совершит?
Симон стоял в раздумье и дрожал всем телом.
– Я сделаю это! – сказал он с глубоким вздохом.
– Это нетрудно, – пробормотал я.
– Да, это легко, – ответил он, едва переводя дыхание.
Он был бледен, как полотно; его глаза блестели, по лбу катились крупные капли пота. Я задумался; и чем больше думал, тем исполнимее казалось мне его намерение. Тот, кто действовал против меня из-за угла, не заслуживал от меня лучшего обращения, чем последний шпион. Он оскорбил мою мать, он желает погибели моих друзей: конечно, я был бы достоин порицания или насмешки, если бы колебался в такую минуту. Но всю свою жизнь я был противником грубого насилия, которое так вошло в обычай за последнее время и пришлось так по душе Франции. Не будучи слишком строгим судьей, я все же считаю убийство делом, недостойным солдата. Но в описываемое время наши враги, казалось, старались укрепить во мне другой взгляд. Я ответил Симону так, чтобы не вводить его в заблуждение, причем, помнится, я и сам был немного взволнован.
– Друг мой, прежде всего ты должен помнить, что ты солдат и гугенот: ты не должен действовать из-за угла.
– А если он не согласится драться? Что тогда?
Было ясно, что в таком случае наш противник слишком много выигрывал: я не мог ничего возразить. Тем не менее я повторил Симону свое прежнее приказание придумать другой способ. Он, хотя и неохотно, согласился и, подумав немного, вышел посмотреть, караулят ли дом. Когда он вернулся, я по лицу его увидал, что что-то случилось. Он, видимо, был смущен, избегал смотреть мне в глаза и, казалось, хотел снова уйти. Затем, словно вдруг переменив намерение, он подошел ко мне и бросил что-то мне прямо в руки.
– Что это?
– Посмотрите, – грубо ответил он, в первый раз нарушив молчание. – Вы должны знать. Зачем спрашивать? Что мне до этого?
В моих руках был бархатный бант, похожий на тот достопамятный бант, только немного иного цвета, и с такими же буквами.
– Где вы его достали? Что это значит?
– Где я это достал? – ответил он ревниво. Затем, овладев собой, он заговорил совершенно другим тоном: – Мне его дала на улице одна женщина.
– Какая женщина?
– Откуда мне знать? – сердито ответил он, сверкая глазами. – Она была в маске.
– Фаншетта?
– Может быть, не знаю.
Я прежде всего заключил, что мадемуазель и ее свита были в предместье: Мэньян, как всегда осторожный, прежде чем войти в город, прислал ко мне узнать, свободен ли путь. Меня поразило только поручение, высказанное наконец Симоном, у которого нужно было выжимать слова, как кровь из камня:
– Вы должны встретить посланца завтра вечером, через полчаса после заката солнца, на паперти собора с северо-восточной стороны.
– Завтра вечером?
– Ну да, а то когда же? – отвечал он нетерпеливо. – Я же сказал вам.
Мне это показалось странным. Я бы еще мог согласиться с тем, что Мэньян предполагает оставаться вне города, прежде чем увидеться со мной, но зачем откладывать свидание на такой долгий срок? Посылка тоже казалась мне недостаточной: я начинал думать, что Симон что-то скрывает.
– Это все? – спросил я резко.
– Все… кроме…
– Кроме чего? – спросил я.
– Кроме того, что женщина показала мне золотую монету, которую носила мадемуазель, и сказала, что это вас удовлетворит, если вы будете еще требовать доказательств.
– Вы сами видели монету?
– Конечно.
– О, Господи! Значит, или вы обманываете меня, или эта женщина обманула вас: ведь монета у меня. И вы еще будете утверждать, что видели ее?
– Вероятно, я видел очень похожую на нее, – отвечал он, дрожа, по его лицу струился пот. – А женщина сказала мне все, что я передал вам, больше ничего.
– В таком случае совершенно ясно, что мадемуазель наверно далеко отсюда. Это одна из проделок Брюля. Френуа дал ему половинку, которую украл у меня; а историю с бархатным бантом я сам ему рассказал. Это ловушка: если б я пошел завтра на паперть, я бы погиб.
Симон задумался, затем, обернувшись ко мне, сказал робко:
– Вы должны были идти туда одни: так сказала женщина.
Хотя я и догадался, почему он скрыл это от меня, я не стал его допрашивать, а обратился к нему с другим вопросом:
101
Брантом (Brantome) воспитывался при дворе Маргариты Наваррской и много путешествовал, затем участвовал в религиозных войнах. Наконец он стал калекой от падения с коня и много лет был прикован к постели: тут-то, на невольном досуге, в своей сеньории Брантом, он составлял записки до самой своей смерти (1614). Эти записки были опубликованы, и то частью, лишь в 1665 году. Полное издание явилось в его «Oeuvres completes», в 1865–1882 г. Pingaut оценил Брантома как историка в «Revue des questions historiques» за 1876 г. Среди массы записок XVI века мемуары Брантома выделяются своим остроумием, наблюдательностью и легкостью слога. Этот язвительный, но легкомысленный царедворец Карла IX отлично знал пороки двора и знати и наивно изображал их с наслаждением и хвастливостью, старого грешника.