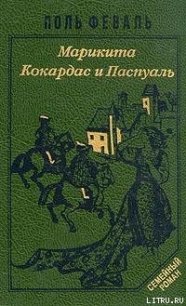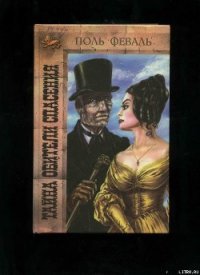Карнавальная ночь - Феваль Поль Анри (библиотека электронных книг .TXT) 📗
– Господин Барюк Дикобраз!
– Может, мне почудилось? – спросил второй заместитель. – По-моему, кто-то произнес мое имя!
– Время летит как на крыльях! – отвечал Гонрекен Вояка. – Пора звонить.
Барюк, отложив палитру и кисть на длинной как у метлы палке, сказал:
– Динь-дилинь, динь-дилинь! Вот гонг, возвещающий, что всякий может спокойно принять свою трапезу, причем всякому, буде он пожелает, дозволяется закурить и побеседовать с другими, не задираясь! Вольно! К трапезе приступить! Сегодня к перерыву, по сравнению с обычными днями, милостиво прибавляется четверть часа по случаю праздника Господина Сердце! Эй, вы! Кружки достать!
Как только кончилась сия речь, выслушанная в благоговейном молчании, тишина сменилась невообразимой суматохой. Вся мастерская – офицеры, капралы, рядовые и те, кто им позировал, с гомоном сорвались с мест как отпущенные с уроков школяры. Из всех стран на карте рода человеческого ни одна не может сравниться сокровищами своих недр, глубиной пещер и неизведанной дикостью ущелий с лучезарной страной художества. Искусство – колосс, коего благородное чело освещено ярким солнцем, но невидимые ноги уходят Бог весть куда, в океаны нищеты. Можно ли причислить к искусствам и это? – спросите вы. И сии ступни – от той ли они главы? По-моему, да. Поглядите, какая пропасть отделяет комедианта-звезду от убогой подстилки из бессловесных статистов, на которой его подают как роскошного глухаря на рубленом мясе. Ничто так не походит на мастерскую Каменного Сердца, как эта чудная толпа фигурантов, непрестанно копошащихся на самом дне и вместе с тем – дивная тайна! – гордых собою. Искусство остается искусством, и в самых низах своих, как и на вершине, а честолюбие – кровь этого огромного организма – проникает и в самые дальние уголки пальцев его несчастных ног.
Пескарь, это наказание парижских рыболовов, эта ничтожная, несъедобная тварь, копошащаяся в илистом дне канала де л'Урк – не в меньшей степени рыба, чем отливающий серебром окунь, чем удивляющая совершенством формы форель, чем крапчатая минога или гигантский осетр. Дворовая шавка – такая же собака, как и увешанный выставочными наградами пес голубых кровей.
Так и эти рабы по 25 су за штуку тоже были художниками. Они сделались художниками оттого, что это ремесло есть свобода по преимуществу. Ими помыкали как последними школярами, но что с того? Они были свободны, ибо не делали ничего ради корысти!
Все разбрелись по своим углам. Углов здесь было великое множество, и в каждом, за грудою ли сваленного тряпья, под поленницей ли дров, меж подрамниками и стенами, словом, повсюду был припрятан какой-нибудь сильно пахнувший, проперченный кусок съестного. Бедный художник не станет питаться как жалкий мастеровой: искусству всегда потребна роскошь, а пряности служат роскошью голытьбе.
Вскоре всякий устроился со своей газеткой и бутылкой. Газетка – вот тарелка, предоставляемая художнику цивилизацией; она же служит одновременно буфетом. Изо всех этих лопающихся от обилия мыслей газеток неслись сотни тошнотворных ароматов, над которыми царил въедливый мужицкий луковый смрад. Гораций, великий поэт, обрушивал на лук яростные проклятия; я не дерзну вступать в спор о луке с таким авторитетом, и все же без лука искусству не обойтись.
В мгновение ока развернутые газетки распространили по всей мастерской густой аромат лука; луком разило равно от всех изданий: от юного еще в ту пору «Века», от «Прессы» – старшей его сестры с обещанным ею читателю годовым доходом в сумме 365 идей; от «Родины» (тот же «Век», только выходящий по вечерам), от «Французского курьера» (та же «Родина», только выходящая по утрам), от «Дебатов» в их назидательных пеленках, от «Французской газеты», что так и норовит ужалить короля-мещанина в нос, от «Ежедневной» с ее вздохами по ушедшим временам, от «Эстафеты», «Времени», «Глобуса» и двух десятков других газет, сильных и хилых, умных и тупых, луком несло ото всех. Перед луком все были равны. Единожды попав в эту яму, шедевры человеческого разума пахли одинаково: луком.
А в это время поближе к плите местная знать кушала с тарелок: господин Барюк – почку под соусом, Вояка Гонрекен – худосочное цыплячье крылышко. Вокруг них среднее сословие и простонародье, расположившись в живописном беспорядке, с неизменным аппетитом жевали кто кусочек солонины, кто мозговой колбасы. Судачили, смеялись, пели. Средь этой веселой толпы мы выберем три компании, теснее других связанные с нашей историей.
Первая компания, состоявшая всего из двоих персонажей, держалась особняком; ее образовали Эшалот (который представлял туловище) и убогий мальчонка, с которого рисовали летающего ребенка для афиши акробатов. Так что в жизни половинки атлета существовали по отдельности, и покуда Эшалот, натура поистине материнская, занимался единственным наследником Симилора, тот, будучи поборником наслаждения, присоединился к госпоже Вашри и завтракал со скоморохами.
Это и была вторая группа, куда входили: Паяц, исполнитель первых ролей, Медведь, Альбинос и Физик.
Третий кружок образовали только художники мастерской, собравшиеся вокруг Вояки Гонрекена, который говорил витиевато, путано и помногу.
Барюк был чем-то занят: его маленькие серые глазки шмыгали туда-сюда.
Саладену, скорее всего, не хватало до двух лет лишь нескольких месяцев; он еще не научился говорить, но ползал как ящерица, был уродлив, тщедушен и нелепо скроен. Эшалот говорил ему с неповторимой нежностью терпеливого человека:
– Ну подумай сам, Саладен! Нельзя же сосать соску до самой армии, правда? Ну-ка, скушай это, как делают послушные мальчики, это тебе полезно, сам дядя ветеринар сказал, и пора уже тебе, пацан, сиську бросать и браться за ум.
Саладен глотать явно не желал, корчил невозможные рожи и пытался орать; но Эшалот, знакомый с силою его глотки и опасаясь скандала, стискивал ему ладонью рот, говоря:
– Напрасно ты это. Твой папка для тебя ничего не делает, я один о тебе забочусь. Будь добр! Колбаса тебе придаст мужской силы – не то что молоко, которое в Париже чем только не разбавляют: и крахмалом, и лошажьими мозгами. Молочники – самое жулье. Ты откроешь, наконец, рот, гаденыш?.. Вот видишь, Саладен, ты таки дождался, что я обошелся с тобой грубо!
Саладен, который кочевряжился как мог, вырвался наконец из объятий Эшалота и запустил все десять своих черных изогнутых ногтей в бедную тощую щеку кормильца. Эшалот поцеловал его.
– Безобразник, – проворчал он сквозь смех, – когда ж ты дурить-то бросишь? – И добавил с нежной решимостью: – Не мешало бы тебе возблагодарить небо, что оно отучает тебя от сиськи колбасой! Человек должен быть приучен кушать сам с младых ногтей, ты мне когда-нибудь за это спасибо скажешь. Давай-ка, Саладен, будь умницей! Здоровее будешь. А ну-ка, попробуй! Ты разве видел, чтобы я когда-нибудь сосал соску? Ты один тут сосешь, срамник!
По лбу Эшалота катился пот; он вытер его рукавом и подумал: «Надо ж, до чего упорный! Такой кроха, а уже против колбасы выступает!»
В нескольких шагах от них щеголеватый Симилор и не вспоминал о своем сыночке; это было для него обычное дело. Вся затея с отучением от соски, дело тонкое и нелегкое, ничуть не занимала его. Раб своих страстей, он транжирил весь свой заработок с госпожой Вашри. Он не был красавцем, но под его обуженным плюшевым сюртуком скрывалась натура артистическая, с обхождением; без штанов и в старой серой шляпе, из-под которой выбивались упрямые русые волосы, он был поглощен ухаживанием.
– А вы как думали! – говорил он с подлым и в то же время глуповатым выражением лица.
Мы, что называется, повесы эпохи Регентства, со всеми этими всевозможными фокусами, как полагается, и оченно даже можем, чтобы бабенка себя чувствовала как рыбка в воде, в смысле там покушать, наряды и все прочее. Это все вздор, любовь эта мне здорово подгадила в жизни; но что вы хотите? Ох, и натерпелся от красоток за свою жизнь этот модный молодой человек, не отступавший, заметьте, от стези чести!