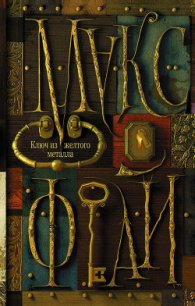Тени «Желтого доминиона» - Рахим Эсенов Махтумович (бесплатные версии книг .TXT) 📗
– Повернись спиной!
– Нет, стреляй сюда! – Аннамет дрожащей рукой отвернул ворот вышитой рубашки и, ткнув пальцем в грудь, выдавил: – Стреляй. Тут, говорят, сердце… На мне кровь твоего отца. Я бы тоже пристрелил убийцу своего отца.
Таганов взвел курок маузера, прицелился – в прорезь мушки увидел лицо, искаженное предсмертным страхом. Лоб басмача покрылся испариной, он прикрыл глаза, ожидая выстрела, но нашел в себе силы разомкнуть веки… Он улыбался – криво, вымученно. Таганов опустил руку, с шумом впихнул маузер в деревянную кобуру.
Вскоре Бегматов и джигиты отряда увидели странную картину: из-за барханов показался Ашир, а чуть поодаль – Аннамет; оба бледные, они, не глядя ни на кого, медленно прошли по лагерю. Ашир, пригнувшись, вошел к себе, в командирскую палатку, Аннамет – в землянку, вокруг которой прохаживался часовой.
Перед отправкой басмачей в Ербент Аннамет, не поднимая глаз на Таганова, спросил:
– Скажи, Ашир, почему ты не убил меня? Ведь ты хотел это сделать…
– У меня и сейчас рука не дрогнет, – резко ответил Таганов. – Я вывел тебя на расстрел, ослепленный местью. Но подумал: а почему ты оказался в басмаческом стане? Ты стал нашим врагом не по своей воле… Закоренелый басмач не встретил бы смерть так мужественно. И еще по одной причине я сохранил тебе жизнь. И эта причина главная, в ней суть… Какая? Придет время – поймешь.
– Ты меня уже убил… Там, у бархана, я похоронил одного Аннамета. Но не очень-то уверен, сможет ли начать новую жизнь другой Аннамет… Даст Аллах, свидимся, я бы хотел услышать о той сути, о которой сейчас не время говорить. Но чует мое сердце – в ней правда, что ты сохранил мне жизнь, которой я не достоин, – Аннамет, опустив голову, переминался с ноги на ногу. – А сотня из племени ушак, по замыслу Эшши-хана, должна с другими отрядами пойти на Куня-Ургенч. Эшши-хан задумал захватить его, вырезать всех большевиков – русских и туркмен… Однажды мы сожгли там новую больницу, почту, мельницу, где беднякам бесплатно зерно мололи. Теперь вот второй раз задумали Куня-Ургенч захватить…
Истина старого кочевника
Говорят, некогда Человек и Змея жили в мире и дружбе. Человек не раз выручал свою соседку из беды, а она охраняла его жилье, отыскивала ему клады.
С годами у Змеи появились новые повадки. По ночам она норовила заползти в жилье Человека, стала покушаться на домашний скот и, наконец, отравила родник, из которого пили люди.
И они крепко поссорились, наговорив друг другу кучу обидных слов. На том бы разойтись, но Змея, раскрыв пасть, бросилась на Человека, пытаясь ужалить его. Человек выхватил саблю и отрубил ей хвост. Змея, оставляя за собой кровавый след, уползла в кусты. Но она не погибла. Затаившись, обдумывала, как бы отомстить Человеку. В один из дней, подкараулив малолетнего сына Человека, ужалила его, и тот вскоре умер.
Прошло много лет. Все эти годы Человек и Змея не ведали друг о друге. Как-то Змея приползла к Человеку и, извиваясь, пала перед ним ниц:
– Забудем старое! Давай будем дружить, как прежде.
– Дружбе нашей не бывать, – ответил Человек. – У тебя хвост не отрастет, а у меня в сердце боль не уймется.
– Мы квиты, – Змея поблескивала новой чешуей. – Я поняла – на земле добрее Человека никого нет. Смотри, я теперь иная, красивее и наряднее.
– Но сердце-то у тебя старое. Ты сменила чешую, но не нрав.
Старый Мерген-ага, прозванный так за верный глаз и сильные руки, сызмальства жил в глухом урочище Ярмамед, к которому с одной стороны подступали песчаные гряды Каракумов, с другой – ровное, как гигантский палас, плато Устюрт. Здесь женился и овдовел. Жена, рожая вторую дочь, умерла, а маленькая Акча выжила – выходила ее старшая дочь Набат. Теперь та, некогда беспомощная, писклявая малышка, как две капли воды похожая на покойную мать, выросла в первую красавицу кочевого аула. А годы идут, катятся, как арба под уклон, и Акча уже девушка на выданье…
Мерген-ага, стыдясь самого себя, мысленно перебирал парней урочища и, не остановившись ни на одном, кто стал бы достойной парой дочери, неизменно приходил к выводу: пора подаваться в Конгур, в родной аул, откуда родом все его предки. Может быть, Мерген-ага, волей случая ставший кумли [16], и съехал бы в оазис, не будь у него своей маленькой отары. Но здесь раздолье пастбищ и хрустальной чистоты вода. Вкуснее воды, чем в колодцах Ярмамеда, пожалуй, не было во всех Каракумах.
Правда, колодцами владел Атда-бай, а Мерген-ага поил из них свою отару только благодаря байской милости. Поил задарма, а со всех скотоводов округи хромец драл три шкуры. Как-никак Мерген-ага все же доводится Атда-баю дальним родичем по матери. К тому же недавно они еще больше породнились. Набат, старшая дочь старого охотника, стала четвертой женой бая. Это, пожалуй, крепче всего привязывало старого Мергена к Ярмамеду. Да и куда ему, на седьмом десятке, от родной дочери уезжать? У Мерген-аги не было ни сыновей, ни братьев, а родителей он вовсе не помнит. Вот и пестовал старик своих дочерей, заменивших ему и наследников, и братьев. А хромому шайтану век бы, как своих лопаток, не видать Набат! Разве ей, пригожей и молодой, такой муж нужен? Да забили старому Мергену голову всякими байками: умыкнет девку любой лихой проезжий, натешится вдоволь и продаст проходящим в Иран караванам. Такого позора он не вынес бы. Лучше уж в жены Атда-баю. Может, стерпится-слюбится… Не беда, что она у него четвертая. У пророка Мухаммеда, говорят, было столько жен, что не счесть, а четвертая – самая любимая… Атда-бай отнюдь не пророк, а какой ни есть зять, прижимистый, привередливый, но все же не чужой… Утешался Мерген-ага, сам зная, что обманывал себя, но на что-то надеялся, чего-то ждал.
Старый Мерген тяжко вздохнул своим мыслям, погоняя к урочищу отару, которую сам выпасал, сам поил, стриг по весне, когда и дочери помогали – никогда в жизни не нанимал батраков.
Вот и Ярмамед… Мерген-ага по привычке насчитал издали три десятка юрт и восемнадцать землянок. Все на месте – никто не приехал, никто и не съехал.
Кочевье жило трудовой, размеренной жизнью. Ранней весной кочевники стригли на пастбищах овец, свозили сюда шерсть. К лету, когда на дальних выпасах выгорала трава, а в колодцах вода становилась горше или вовсе исчезала, к урочищу съезжались скотоводы, ставили юрты, ремонтировали колодцы и старые кепбе – камышовые мазанки, рыли землянки, сооружали из саксаула и гребенщика загоны, лепили из глины, замешанной на соломе, тандыры.
К концу лета в урочище, как всегда, громоздились стога верблюжьей колючки. И если зима выдавалась мягкая, дождливая, то колючку палили в тандырах, выпекая хлеб. Если же зима оборачивалась морозной, сухой и суровой, то вчерашнюю топку берегли пуще глаз – она шла на корм неприхотливым каракульским овцам и всеядным верблюдам. Летом же чабаны перегоняли отары на просторы Устюрта, где трава держалась подольше и кустарников было погуще, – было чем скотину до зимы продержать. А когда наступала осень, выпадали теплые дожди и на желтых барханах проступала зелень, кочевники снова подавались в Каракумы, чтобы выпасать овец на подножном корму. Такая благодатная погода выдавалась изредка и зимой.
Солнце огромным медным тазом скатилось к горизонту и пока еще краешком лизало дальние барханы. Скоро оно скроется за краем земли, но еще будет светло и скотоводы успеют до темноты управиться со своими сегодняшними делами.
Над полукружьем юрт взвивались серые струйки дыма – это женщины готовили ужин. Иные садились за ручную мельницу-дегирмен – круглые, грубо отесанные каменные жернова, – мололи муку, чтобы замесить, поставить тесто на ночь, а на зорьке развести в тандырах огонь для чуреков. Мужчины тем временем поили овец – большая бадья из бычьей сыромятины, шурша по стенкам колодца, выложенным прочным созеном – пустынной березкой, опускалась вниз и затем вытягивалась на поверхность специально обученным для этого верблюдом. Только поспевай хватать за волосяные веревки и выливать воду из бадьи в большие деревянные корыта, у которых грудились овцы, жадно втягивавшие в себя холодную колодезную воду.
16
Кумли – человек песков.