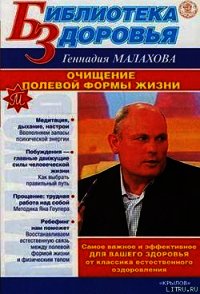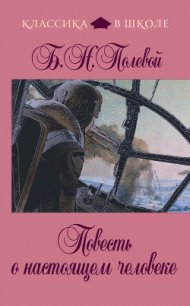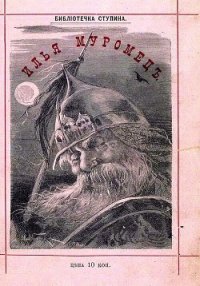Капитан полевой артиллерии - Карпущенко Сергей Васильевич (книги онлайн полные версии .txt) 📗
Маша быстро вернулась к врачу, уже собравшемуся уходить.
– Господин старший врач, – своим низким решительным голосом удержала она уходившего. – Я молю вас, примите хотя бы того… офицера… Я отдам ему свою койку, прошу вас.
Старший врач, не старый еще мужчина, ответил со свойственным многим военным врачам хамством:
– И сами с ним ляжете? Да? Ну просто чудесненько! – Но, увидев, как полыхнула ненависть в красивых карих глазах девушки, испугался собственной грубости и с деланной снисходительностью сказал: – Ладно, пускай занесут офицера, на ваше попечение…- И ушел с крыльца, недовольный собой и злой на этого обросшего щетиной санитара, на раненых и на войну.
Из помещения приемного покоя вышли два санитара – здоровые малые в грязных фартуках, их дыхание откровенно свидетельствовало о пристрастии к казенному спирту. Подошли к фуре и лениво выудили из-под брезента того, на кого указал им сопровождавший повозку. Маша стояла в стороне, не замечая, как заламывает в волнении руки, переплетая пальцы. В человеке, небрежно положенном на носилки, не было ничего, похожего на Лихунова. Разве могла узнать она глазами того изящного, похожего на гвардейца офицера в прекрасно сшитом мундире в этом грязном, исковерканном болью теле? Китель у лежащего на носилках отсутствовал, был снят зачем-то один сапог, вся рубашка была залита кровью, верхнюю часть головы скрывала неумело наложенная повязка, грязная, с просочившейся кровью, залившей и низ лица, но уже засохшей и превратившейся в черную корку. Руки этого человека лежали вдоль бедер, но не были расслаблены, как это обычно можно видеть у находящихся в забытьи, а крепко сжимались в кулаки, будто раненый нарочно сжал их, чтобы преодолеть нестерпимую боль. И все же Маша знала, что видит перед собой Лихунова, но уже совсем иного – не того, кто сидел у нее дома со стаканом кваса в руках, не того, кто стрелял в неизвестного ему человека, и даже не того, кто прикасался к ее телу своими мягкими, нежными руками. В этом Лихунове она не видела уже ничего мужского, героического, поэтому и ее женская природа смотрела сейчас на этого беспомощного человека не обыкновенной стороной, желающей обычно от мужчины признавать в ней будущую мать, любовницу, но частью совсем иной, особенной, подчиняющей все тленное, земное назначению даже более высокому – быть милосердной к людям. Оттого и узнала она его не глазами, а сердцем своим, застучавшим теперь спокойно, ровно – возлюбленный был рядом с ней, нуждался в ней и, значит, находился в ее власти.
Лихунов был тяжело ранен в голову осколком шестнадцатидюймового снаряда, когда еще не уничтожили полностью его батарею и когда еще немцы не заняли «Царский дар». Первую перевязку, впопыхах, под непрерывным огнем, ему сделал батарейный фельдшер, а на перевязочный пункт Северного сектора его на руках донесли легкораненый канонир и денщик, белорус Игнат. Там, на перевязочном, осколок, пробивший височную кость и застрявший в глазном яблоке, трогать не решились и отправили тотчас бредившего, находившегося в забытьи Лихунова в крепостной госпиталь с транспортом раненых нижних чинов. Цитадель уже обстреливалась, обстреливались и госпитали. Один госпиталь загорелся, другой был подожжен своими, и перепившиеся санитары занялись грабежом. В третьем госпитале старший врач не принял раненых, заявив, что крепость через день падет и пускай немцы сами заботятся о пленных, выхаживают и кормят их. Устроить Лихунова удалось лишь в самый переполненный ранеными госпиталь, где осколок из его виска извлекли и вылущили глазное яблоко, но его все время лихорадило, открылось рожистое воспаление обоих глаз, он все время бредил, и врачи были уверены, что жить ему осталось совсем немного.
А в галлюцинациях своих он видел все одно и то же: бой у форта, толпа пьяных немцев, штурмующих заграждения колючей проволоки, повисающие на ней серо-зеленые фигурки убитых им людей-марионеток, звон разрывающихся в рваных клубах дыма шрапнельных стаканов, треск деревьев, вырываемых с корнем ужасной силой тяжелых немецких снарядов, их скрежещущий вой и фонтаны разрывов совсем рядом с разогретыми стволами дергающихся в безумном танце боя орудий его батареи. Но потом внезапно все смолкало, и на черной завесе могильной, страшной тишины, точно капелька росы, появлялся тихий, ломкий голосок его умершей дочери, который был давно уж забыт Лихуновым, однако живший в нем неслышно, тайно.
Он бредил и тогда, когда крепость пала и в ней, внезапно превратившейся в кучку безобидных, безобразных по форме строений, бесполезных и бессмысленных, уже разгуливали германские солдаты, очень гордившиеся тем, что смогли взнуздать за неделю такого свирепого скакуна, а поэтому наглые, как все победители, смелые и пьяные. Да, многие из них просто пили, радуясь тому, что остались в живых, другие, обзаведясь дюжиной консервных банок с баварской свининой, упивались купленной у голодных, вшивых беженок любовью, третьи уже спешили отправить на родину посылки с боевыми трофеями и вновь кидались на поиски тех, кто за несколько пфеннигов, не торгуясь, отдавал им добытое в чужих сундуках, шкафах, кошельках и карманах.
Но Лихунов обо всем этом еще не знал. Он жил лишь своим бредом или, когда сознание возвращалось к нему, своей болью, нестерпимой и страшной. Ни на японской, ни теперь, на германской, он не был ранен даже легко и представления о сильной боли имел лишь самые смутные. Он часто видел смерть, видел умирающих в диких мучениях, когда вылезают из орбит глаза и стоны переходят в звериный рев, но все это были чужие муки, к которым Лихунов оставался почти что равнодушен, не обладая способностью страдать болью чужого тела. Теперь же рана терзала его самого, и в его сознание, довольное тем, что все происходящее на поле боя перед его глазами, то, в чем участвовал он лично, очень нужно людям, начинало заползать какое-то сомнение. Терзаясь по ночам ужасной болью, он словно начал наделять своим страданием, таким понятным, близким для него сейчас, всех тех, кто корчился от диких мук там, на поле перед фортом. Но Лихунов пугался этого сомнения и говорил себе: «Нет! Нет! Все, что я делал, командуя батареей, работает на будущее! Да, все это страшно, и люди, помня страх, когда-нибудь поймут, что убивать друг друга не просто бесполезно или безнравственно, а попросту убийственно, глупо! Да, да, они поймут, поймут! И все случившееся в той мясорубке у форта «Царский дар» спасет в дальнейшем гораздо больше жизней, чем было потрачено на доказательство ненужности войны». И по мере того как боль его растворялась в новой, здоровой плоти, являющейся взамен растерзанной старой, исчезала и появившаяся неизвестно откуда способность вживлять себя в других людей, становиться ими и болеть их ранами.
Вначале он Машу не узнал, да и вообще испугался даже, увидев над собой склонившуюся женщину. Лихунову показалось, что он по-прежнему бредит. Несколько дней ничто в этой женщине, менявшей ему повязку, дававшей пить и есть, не вызывало в его памяти образа девушки, просившей его ночью у госпитальных ворот быть милосердным к врагу. Но однажды она спросила: «Вы все еще меня не узнаете?» Спросила с тревогой и огорчением в голосе, потому что боялась, что рана помешает любимому человеку вспомнить ее, Машу. И голос этот, низкий, мягкий, точно прикосновение губ, пробился к сознанию Лихунова через пелену забвения и боли и стал человеком в образе женщины, которую он знал и даже любил, но совершенно забыл ради страшного дела.
– Вы похудели, – еле слышно заметил он.
И Маша, безумно радуясь тому, что ее узнали, что ее возлюбленный ранен не опасно и будет жить теперь, горячо, но тихо заговорила, наклоняя голову к его повязке, остро пахнущей карболкой:
– Да, да, милый, я очень, очень похудела! Это потому, что здесь у сестер много работы, очень много! Но я рада, что похудела, – всегда боялась, что буду толстухой, страшненькой дурнушкой! – И тут же спохватилась: – Но, наверно, я тебе не нравлюсь? Так хуже? Правда?