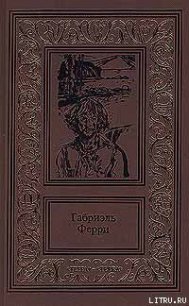Обитатель лесов (Лесной бродяга) (др. перевод) - Ферри Габриэль (книги хорошего качества .txt) 📗
— По существующим на войне законам, я ваш пленник, — сказал он, гордо поднимая голову, — и мне хотелось бы знать, что вы станете делать со мной?
— Вы свободны, Диац, — сказал Фабиан, — свободны с условием, которое, впрочем, ни в каком случае не нанесет ущерба вашей свободе.
— С условием, но с каким? — дернул бровью искатель приключений.
— Чтобы вы никому не говорили о существовании этой золотой долины.
— Пусть богатства этой долины останутся навсегда похороненными в этих пустынях, — ответил Диац, — я клянусь не выдавать никому их существование.
— В таком случае вы можете удалиться, — сказал Розбуа.
— Нет, если вы позволите, я останусь еще здесь, — возразил искатель приключений. — Мне хотелось бы слышать, в чем вы обвиняете этого человека. Я сниму с него оковы, но клянусь, что он не сделает даже попытки спастись бегством.
Розбуа согласился на эту просьбу. Педро Диац подошел к дону Эстевану, глаза которого еще светились гордостью, но при виде спутника выражение грусти отразилось в чертах его лица.
Диац снял оковы, наложенные на дона Эстевана, уверяя, что он не убежит, и оба подошли к охотникам.
— Граф Медиана, вы видите, я вас знаю, — сказал Фабиан, подходя с обнаженной головой на расстояние двух шагов к испанцу, который также остановился, — и вы, в свою очередь, должны знать, кто я.
Дон Антонио стоял прямо и неподвижно, не отвечая своему племяннику.
— Я имею право стоять пред королем Испании с покрытой головой, этим преимуществом я намерен воспользоваться и в отношении вас, — сказал он. — Я имею также право отвечать только тогда, когда нахожу это нужным, и этим я намерен тоже воспользоваться. Считаю нужным предупредить вас в том.
Несмотря на этот гордый ответ, дон Антонио невольно подумал, сколь большая разница между юношей, ставшим теперь его судьей, и тем ребенком, который двадцать лет назад плакал перед ним в кроватке спальни замка Эланхови. Юный орел стал могучей птицей и держал теперь его в своих когтях.
Взоры обоих Медиана встретились, подобно двум скрестившимся мечам, между тем как Диац, стоя в стороне, смотрел с удивлением, смешанным с уважением, на приемыша гамбузино Арелланоса, который сразу так вырос в его глазах.
Дерзкий искатель приключений с нетерпением ждал разъяснения разыгравшейся перед ним драмы.
Фабиан горд от природы не меньше, чем дон Антонио.
— Пусть будет так, — ответил он, — но, может быть, вам не следует забывать, что право сильного сейчас не пустой звук.
— Вы правы, — возразил дон Антонио. Несмотря на кажущееся спокойствие, он внутренне содрогался от гнева и горя. — Потому-то я и буду отвечать на ваши вопросы, но лишь для того, чтобы сказать вам: я знаю о вас более того, что некий злой дух вернул вас к жизни, чтобы вы воздвигли преграды между мной и той целью, которую я лелею.
Бешенство мешало ему продолжать.
Запальчивый юноша побледнел при этих словах дона Антонио, но снес терпеливо обиду, нанесенную ему убийцей его матери.
— Итак, кроме этого, вы не ведаете ничего? — сказал Фабиан. — Вы не знаете ни моего имени, ни моего звания? Разве я лишь тот, кем кажусь вам сейчас?
— Быть может, вы еще и убийца, — ответил дон Антонио, повернувшись спиною к Фабиану и показывая таким образом, что не желает больше отвечать.
В продолжение этого разговора двух людей, сродных по крови и равно необузданных по своей природе, канадец и Хозе стояли в стороне.
— Подойдите сюда, — сказал Фабиан, обращаясь к Хозе, — и объясните ему, — сказал он, пытаясь казаться спокойным, — объясните, кто я! Расскажите все этому человеку, язык которого называет меня именем, принадлежащим только ему одному.
Если бы дон Антонио еще питал какое-нибудь сомнение относительно замыслов тех, в чьих руках был, то теперь всякие сомнения должны были у него исчезнуть при виде мрачного выражения лица Хозе.
Усилие, с которым он, по-видимому, преодолевал свое бешенство и ненависть, пробудившиеся при виде испанского дворянина, породило в нем мрачное предчувствие.
Дон Антонио вздрогнул, но не опустил взора и оставался непоколебимо горд и спокоен, пока Хозе не заговорил.
— Эх-хо! — сказал последний, стараясь придать своим словам шуточный оттенок. — Стоило же посылать меня ловить тумака к берегам Средиземного моря, чтобы наконец встретиться в трех тысячах миль от Испании со мной и племянником, мать которого вы убили. Я не знаю, угодно ли будет дону Фабиану де Медиана даровать вам прощение, что же касаемо меня, — прибавил он, ударяя прикладом своей винтовки о землю, — то я поклялся не давать вам никакой пощады.
Фабиан глянул на Хозе повелительным взором, будто приказывая ему подчиниться на сей раз воле другого.
Потом, повернувшись к испанцу, юноша воскликнул:
— Граф Медиана! Вы стоите здесь не перед убийцами, а перед судьями, и Хозе этого не забудет.
— Перед судьями! — воскликнул дон Антонио. — Право судить меня я предоставляю только равным мне, а таковыми я не признаю ни беглого каторжника, ни нищего, присваивающего себе не принадлежащий ему титул. Здесь нет ни одного Медиана, кроме меня, и потому мне нечего отвечать.
— И все-таки я буду вашим судьей, — возразил Фабиан, — но судьей беспристрастным, потому что, клянусь Богом и солнцем, которое нас озаряет, что я с этого мгновения не чувствую больше ни огорчения, ни ненависти к вам.
В словах Фабиана было столько убедительной истины, что лицо дона Антонио сразу утратило мрачное выражение. Луч надежды озарил его, ибо граф Медиана знал очень хорошо, что пред ним его наследник, которого он даже оплакивал однажды. Потому дон Антонио спросил менее сурово:
— В каком преступлении обвиняют меня?
— Вы тотчас узнаете это, — отвечал Фабиан.
Глава XXV
В американских пограничных странах существует закон, гласящий: «Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь».
Закон этот называется «законом Линча».
Среди пустынь, окружающих американские границы, этим законом руководствуются с неумолимой строгостью как белые меж собой, так и индейцы в отношении белых, не говоря уже о белых в отношении индейцев. Этому же суду приходилось подвергнуться и дону Антонио де Медиана.
Торжественность мгновения, когда он предстал перед своими судьями, еще более увеличивалась окружающей мрачной картиной.
Фабиан указал дону Антонио на один из плоских камней, лежавших разбросанными на равнине и походивших на могильные памятники, а сам сел на другой.
— Обвиняемому непристойно сидеть в присутствии своих судей, — сказал испанский дворянин с горькой усмешкой. — Поэтому я буду стоять.
Фабиан молчал. Он ждал, пока Диац, единственный беспристрастный судья, присядет на камень.
Диац сел вблизи, так что мог все слышать и видеть. Он сохранял холодный и спокойный вид присяжного, намеревающегося составить свое мнение после судебного исследования, которое должно произойти в его присутствии.
Фабиан начал:
— Вы тотчас услышите, граф, в каком преступлении обвиняют вас. Я здесь только судья, выслушивающий доклад и произносящий затем или приговор или оправдание.
После этих слов он на мгновение задумался и затем продолжал:
— В самом ли деле вы тот дон Антонио, которого все знали до сих пор под именем графа Медиана?
— Нет! — отвечал граф твердым голосом.
— Кто же вы такой? — спросил Фабиан со странным удивлением, которого не мог скрыть: его возмущала мысль, что один из графов Медиана прибегает ко лжи.
— Я был графом Медиана, — отвечал дон Антонио с высокомерной усмешкой, — до тех пор, пока мой меч не приобрел мне другие титулы. В Испании теперь называют меня не иначе как герцогом Армада. Я мог бы оставить это имя в наследие тому из нашего рода, которого мне вздумалось бы усыновить.
— Хорошо, — сказал Фабиан, — теперь герцог Армада узнает, в чем обвиняется дон Антонио Медиана. Говорите, Розбуа, скажите, что вы знаете, но ни полслова лишнего!
Последнее замечание было совершенно не нужно. В мужественном лице исполинского канадца, стоявшего неподвижно опершись на винтовку, выражалось столько спокойствия и достоинства, что при виде его не родилось бы даже и тени мысли об измене.