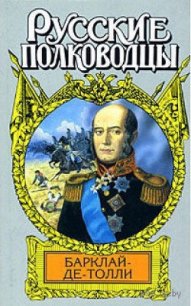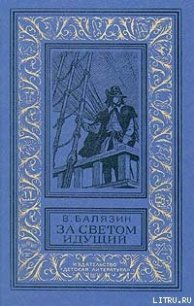Дорогой богов - Балязин Вольдемар Николаевич (читать книги без сокращений txt) 📗
Ваня быстро вскочил и побежал к Мейдеру. Перед тем как спуститься вниз к каюте лекаря, Ваня остановился и оглянулся. Беньовский, ссутулясь, стоял на палубе, держась одной рукой за мачту. Другая его рука вяло повисла. «Заболел, да, как видно, сильно», — с жалостью подумал Ваня и быстро сбежал вниз.
Беньовский пролежал чуть ли не неделю. Ваня ни на шаг не отходил от его постели. Однажды вечером, когда больной задремал, Ваня долго смотрел на его осунувшееся, побледневшее лицо, бессильно лежащие вдоль тела руки, и острая боль защемила мальчику сердце. Тихонечко подойдя к изголовью, он положил руку на лоб учителя и легонько погладил его волосы. Беньовский сразу же очнулся, но глаз не раскрывал. Он лежал неподвижно и как бы прислушивался. Потом с трудом протянул руку и потрепал Ваню по щеке.
Ничего вроде бы не произошло, но впоследствии, когда Ваня вспоминал учителя и все, что было в его жизни с ним связано, эта минута казалась ему одной из самых светлых и радостных, и думалось тогда ему, что дружба их началась не в Большерецке, а именно здесь, в каюте корабля, потому что именно в эти мгновения впервые так сильно почувствовали они оба, что до конца будут вместе и никакая сила, кроме смерти, их не разлучит.
В этот вечер Беньовский рассказал Ване то, о чем он не рассказывал никому.
— Ни одному священнику на исповеди не рассказывал я всего, о чем расскажу тебе сейчас. Ближайшие друзья мои, Хрущов и Винблад, и те не знают всего. А рассказать обо всем этом надо, потому что должно человеку иметь друга, который знал бы о нем все. И уж коли, узнав все, ты по-прежнему будешь считать меня другом своим, значит, без обмана наша дружба. А коли, всю правду узнав, отвернешься от меня — значит, не за такого человека ты меня принимал, каков есть я на самом деле.
Беньовский вздохнул, серьезно посмотрел на притихшего Ваню.
— Прежде всего должен я тебе, Иван, сказать, что многое из того, о чем говорили в Большерецке люди, рассказывая обо мне, я напридумывал. Одно — для того, чтобы нам с Петром людей за собой повести, чтобы поверили они в меня и в нашу «Собранную компанию», другое — чтоб знали обо мне только то, что для успеха дела нашего знать им нужно.
Цесаревича Павла я, Ваня, и в глаза не видал. Да, думаю, если бы и познакомился, то едва ли стали бы мы друзьями. И хотя, как приходилось мне слышать, цесаревич несчастен, но сочувствия к нему у меня никогда не было, ибо он — царственный деспот, а я почти всю свою жизнь был изгнанником, претерпевая все, что со мною случилось из-за таких, как он и его матушка. Да и несчастен он, доколе не обретет трон. А как наденут на голову ему царский венец, тогда-то и посмотрим, хорош он или плох, И едва ли будет он намного лучше других — из истории видим мы множество тому примеров. Помолчи и пока ни о чем не спрашивай, я сам тебе все скажу.
Ты, конечно, спросишь: а зачем мне было лгать? Выдумывать историю с пакетом и перстнем?.. Делал я это вот почему. Году еще в шестьдесят восьмом слышал я презанятную историю о том, как в Черногории объявился человек, называвший себя Петром Федоровичем, то бишь российским императором Петром Третьим, покойным отцом цесаревича Павла, убитым, как говорят, гвардейскими офицерами по наущению жены его Екатерины. И что бы ты думал? Черногорцы встали за него как один человек, хотя сроду от Петра Федоровича и капли добра не видели. Надеялись, что император, избежавший смерти, в долгих скитаниях познавший голод и холод, станет, наконец, добрым к простому народу.
Вот я и подумал: а почему бы мне для того, чтобы наше общее дело имело благой конец, не использовать имя сына императора Петра Федоровича — цесаревича Павла? Его ведь тоже считают страдальцем, незаконно устраненным с отцовского трона злодейкой Екатериной. И, как видишь, расчет мой оправдался. А чтобы все придуманное мною казалось правдоподобным, показывал я легковерным жителям Большерецка и перстень, и синий бархатный конверт, о которых и ты довольно знаешь. Но все вещи эти никакого отношения к Павлу не имеют. Кольцо принадлежало моей матери, а конверт — отцу. В нем отец хранил свои бумаги, а после смерти отца я взял его себе и вот уже много лет храню как память о покойном родителе.
Однако еще по дороге в Большерецк и после, когда я уже оказался в остроге, я говорил, что этот бархатный конверт передал мне цесаревич Павел Петрович. Не знаю, многие ли верили всему этому, но людям, зная это, было легче пойти за мной, ибо, вступая в Компанию, они начинали бороться за правду, против несправедливости, не для себя лишь, но и для других. Они не только искали собственной выгоды, но и делали общее дело. Дело справедливое, затеянное для того, чтобы восторжествовала правда. И, должен сказать, много стран повидал я, Ваня, и много народов, но нигде не видал я, чтобы народ так сильно искал правду и так упорно к ней стремился, как на Руси. II я сказал себе: если русские люди поверят тому, что дело наше справедливо, они пойдут за мной до конца и ни в какой беде не бросят меня. И, как видишь, они пошли.
— Морис Августович, а разве вы не обещали Компании найти остров, на коем будет множество золота? — не удержавшись, спросил Беньовского Ваня.
Немного помолчав, Беньовский коротко ответил:
— Обещал.
— Ну и где этот остров? — снова спросил Ваня.
— А вот ты на нем уже месяц, а того не видишь! Обещанный мною остров — наш корабль. А сокровище, кое мы здесь нашли, дороже всякого золота. Сие сокровище — это наша свобода. Да разве найдутся такие блага на свете, на которые настоящий человек променяет свободу?! — Беньовский, разволновавшись, приподнялся на подушках. — Ты еще, быть может, и не понимаешь всего этого, но все равно Запомни: есть на свете людишки, которых можно недорого купить: за орден, за мундир начальника, за тридцать сребренников они и свою собственную свободу продадут, и всех прочих превратят в рабов. Да только разве это люди? Справедливо сказал великий римлянин Цицерон: «Рабство есть самое пагубное из зол, против которого нужно бороться всеми силами до самой смерти!»
Беньовский разволновался еще более. На бледных его щеках выступил румянец. Он приподнялся на подушках и, взяв Ваню за руку, сказал:
— Всю свою жизнь, Иване, искал я правду и сражался за вольность. От рождения имел я все: волю, богатство, титул. Но одного, самого для человека главного, я не имел: не знал правды и не видел истины. II чем более жил, все более убеждался: не будет мне покоя до тех пор, пока не найду я правды. И вот как получилось: богатство мое и титул, все то, что, казалось бы, должно было облегчить мою жизнь, затруднили ее и заслонили от меня истину. И только потеряв все, что получил я от рождения, изведав полной мерой бедность, тяжкий труд, скитания и горе, понял я самое важное: нельзя чувствовать себя свободным, когда другие в рабстве. И нельзя быть счастливым, когда рядом с тобою несчастье. Теперь я знаю истину и ни на что на свете ее не променяю.
Беньовский помолчал. Видно было, что он вспоминает о чем-то давно прошедшем. Бездумно смотрел он на огонек свечи — и не видел его. Не слышал он ни плеска волн, ни тихого поскрипывания снастей. Ваня смотрел на него и понимал, что учитель сейчас за много тысяч верст отсюда и за много лет. Между тем Беньовский как-то сразу вышел из оцепенения. Коротко и резко встряхнул головой, поудобнее устроившись на подушках, проговорил:
— Слушай, Иване, и запоминай историю жизни графа Беньовского. Бог знает, удастся ли когда рассказать все это кому-нибудь еще?
Три часа подряд, делая лишь небольшие перерывы, рассказывал Беньовский историю своей жизни.
Рассказывая, он заново передумал многое из того, над чем приходилось задумываться ему в своем нелегком и бурном пути. Он вспомнил свои юношеские мечтания о служении матери-церкви и горькое разочарование в своей миссии. Он вспомнил себя молодым лейтенантом, служившим в императорской австрийской армии, верившим флагу, которому он служил до тех пор, пока его идеал и его герой — храбрец Лаудон — не предстал перед ним неразборчивым кондотьером, которому было все равно, кому служить, лишь бы носить мундир и держать в руках шпагу. Он вспомнил растерзанную смутами Польшу, где виселиц было больше, чем фонарных столбов, свой мечущийся по стране отряд и мятущуюся свою совесть, когда, засыпая, он всякий раз мучительно думал: кому нужна здесь его служба и его доблесть?