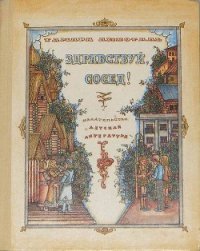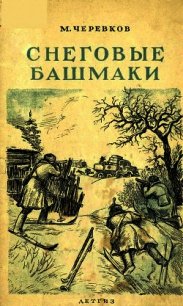Повесть о славных богатырях, златом граде Киеве и великой напасти на землю Русскую - Лихоталь Тамара Васильевна
Но теперь вошла новая мода. Гору поругивали. Жена Мышатычки, молодая боярынька, капризно кривя алые губы, говаривала, что ждет не дождется, когда, наконец, закончат строить новый терем. На Горе совсем стало невозможно жить. По мостовой до ночи тарахтят колеса. На улицах и на площади теснотища — прет кто хочет: и нахальный купчина, и пропахший овчиной смерд.
Мышатычка мог позволить себе построить не только терем в два этажа — новый Киев возвести. Конечно, в чужом кармане считать не годится, но поговаривали, что у Путятина в глубоких каменных погребах скотницы с золотом и серебром полней, чем у самого Великого князя. Ещё в свою бытность тиуном, собирая дань, Мышатычка умел сделать так, что сопровождавшие его ученые писцы были не шибко грамотны и часто выводили в учетных книгах не ту цифирь, что надо. Только ошибались-то все в одну сторону. Так что разница оставалась воеводе. Так же, как и дань, прибирал потихоньку воевода далёкие суздальские земли, примучивая смердов и посадских людишек. Не брезговал и ростовщичеством.
Недавно в проповеди митрополит на всю Софию говорил о несытых мздоимцах, от которых страдают многие человеци. Хоть и не называл митрополит имён тех самых несытых, но весь Киев знал, о ком идет речь. Ропот, как волна, пробежал по пастве. Ближние бояре шептались, завистливо глядя на широкую спину тысяцкого. Громко гудела церковь, переполненная посадскими ремесленниками и окрестными смердами, добрая половина которых была в неоплатной кабале у тысяцкого. И когда митрополит произнес своим по-старчески звучным голосом: «Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное, — и добавил сурово: — Помните: за каждую сиротскую слезинку придется держать ответ перед господом», — слова его, казалось, взлетели под самые своды, туда, где, простерев перед собой руки, стояла во весь рост матерь божья Оранта — нерушимая стена. И она, будто негодуя, косила вниз, на тысяцкого, и вздымала спои распростертые руки к всемогущему своему сыну, чтобы обратил он свой взор с небес вниз, на тех, кого покинул на грешной земле. Но, видно, не дошла до сына материнская ее печаль. Толпа пошумела и растеклась по Подолу в свои землянки и хижины, швейные, сапожные и гончарные мастерские. Тысяцкий благополучно отстроил новый терем, который святили на Успенье богородицы — в тот самый день, когда, наконец, ее измученная материнская душа, покинув этот неправедный и трудный мир, отошла в лучший.
На мощеной брусчатой площади у нового дома тысяцкого теснились крытые возки. Слуги, соскочив с козел, отворяли дверцы, высаживали бояр в шубах и опашнях, боярынь в длиннополых платьях из переливчатых заморских тканей. Боярыни спешно подхватывали хвосты платьев, осторожно, обходя лужи, ступали сапожками на высоких каблучках. Площадь у парадного крыльца хоть и была мощена брусчаткой, но колеса возков натащили грязь почти со всего Киева.
Гости, робея, ступали по затейливым узорам вощеных полов из мореного дуба. Если и снаружи терем был на диво хорош, но тут, внутри… Стены расписаны, как в церкви. В парадной зале картины из жизни святых угодников — христовых воинов и чудотворцев. Вот ученики Христовы евангелисты с книгами в руках — эти книги они написали о жизни божьего сына Иисуса Христоса на земле. Вот старец с кудрявой бородкой и добрыми глазами — святой Николай, покровитель мореходов, спасающий их от неминучей смерти в море во время бури. А вот братья-близнецы — святые коневоды Флор и Лавр на своих конях, один на черном, другой на белом. А. это русские святые Борис и Глеб, безвинно убитые своим братом Святополком, за что тот и прозывается с тех пор Окаянным. В других горницах написаны по стенам развеселые скоморохи и ряженые в ярких одеждах — красных, жёлтых, синих… В третьих, словно в райском саду, цветы и птицы…
Гости задирали головы, оглядывали высокие своды, поднимались по лестницам, глядели из башенных окошек вдаль: в одну сторону — на днепровские воды, в другую — на золоченные осенью леса. Льстиво улыбались хозяину, но, чуть отойдя, стирали с лиц свои улыбки и зарились по сторонам алчно и завистливо. Освоясь в этих невиданных по роскоши палатах, начинали тихо злословить.
Уже было пущено кем-то из острословов, что одни ушные колты хозяйки стоят дороже, чем ее боярская честь. Боярыня-выскочка, жена Мышагычки, была родом из меньшой дружины. И сколько бы ни навешивала она на себя золота и драгоценных каменьев, этого не забывали.
Боярыни, оглядев парадные палаты, ушли на половину хозяйки. Говорили, там у боярыни-выскочки такое убранство, что и в сказке не описать. Оказалось, и правда. На лавках — ковры, резные стулья крыты бархатом. А на столе… Лакомясь сластями, боярыни разглядывали круглое золотое блюдо, на котором горкой лежали грецкие орехи, невиданную посуду — поливную, расписанную тонкими узорами. Хозяйка хвалилась — привезли из дальних земель, куда каравану не один месяц пути по зыбучим безводным пескам. Пройти по ним можно только на верблюдах. Потому что сии твари могут и вовсе не пить и воду про запас носят в своих горбах. Жаловалась — посуда эта хрупка и бьется. Только сегодня нерадивая холопка уронила одну такую чашу, разбила в черепки, негодница. Самое ее пришлось избить, чтобы впредь берегла боярское добро. Да она и сама того не стоит, сколько сия чаша. А еще хвалилась боярыня, раскрыв кованый ларец, мужниными подарками — из золота, из резной кости, из янтаря. И уж чтобы совсем удивить боярынь, из другого ларца вынула ещё одну диковину заморскую — губку. Пояснила — будто находят её в море-океане. Вот сейчас она жестка, как власяница, но если опустить её в воду, помягчеет, станет нежной, как пух. Греческие женки моются такими губками в бане, и она теперь тоже будет… Спохватясь, боярыня угощала, указывая на заморские фрукты, испускавшие каждый свой дух: «Ешьте, дорогие гостьи! Никогда, наверное, не едали. Оно и понятно: купцы держут цену, дорожатся — не купишь. Это вот, будто надутая, так и называется по-иноземному — „дыня“, что означает „пухлая“». Придвигала сливы и сладкие ягоды смоквы. «А эти вот зелёные — огурцы. Так их греки называют. Боярин говорил, означает это — не зрелые. Но вы не смотрите, что зелёные. Положишь в рот, словно ключевой воды глотнешь. Отведайте. Раньше мы их тоже покупали. А нынешним летом холоп-садовник посадил и вырастил…»
Хозяин всё стоял в зале, встречая самых именитых. Но и без него гости не скучали. Старшие, рассевшись на устланных мягкими коврами лавках или на стульцах, обтянутых рытым бархатом, отделанных по спинкам рыбьим зубом и слоновой костью, солидно толковали о делах. Юноши состязались в учености и острых словах. Среди них и Меньшик Путятин, высоченный, как колокольня, парень, племянник хозяина терема Мышатычки, и рыжий Чурила, сын знатного боярина воеводы Пленка Сурожанина. Меньшик Путятин вон какой вымахал, а Чурила росточком не вышел, не дорос. Стоят, на девиц поглядывают, похохатывают. Прошел богато одетый дружинник, спеша кому-то навстречу, нечаянно толкнул какого-то боярина. Боярин сердито ему вслед:
— Кто таков?
— Или не узнал? Алёша Попович, — отвечал долговязый Меньшик. — Ну, тот, что хотел на жене Добрыни жениться.
— То-то я гляжу, обличье знакомое. Ишь, какой прыткий! Давненько его не было видно, с того самого дня…
— Да уж прыток! Любимец переяславского князя. И наш его привечает, — сказал Меньшик, всегда знавший все дворцовые новости.
Алёша и правда давно не был в Киеве. А теперь спешил он через зал навстречу старому другу Муравленину. Крепко обнялись Илья и Алёша.
Среди прочих гостей почти неприметно вошёл одетый в простое платье старец с гуслями. Хоть он и шёл в сопровождении отрока, но держался так прямо и свободно, смело ступая среди раздавшейся толпы гостей, что хозяин в ответ на приветствие, так же как и остальным, закивал ему лысиной, позабыв, что перед ним слепец. Кто-то догадливый заметил, верно, будет сегодня на пиру у тысяцкого сам Великий князь. Поэтому и приглашен знаменитый придворный поэт Боян.
Это был совсем не тот Боян, что пел вдохновенные песни о смелом красавце Мстиславе Тьмутараканеком, победившем в поединке предводителя печенегов силача Редедю.