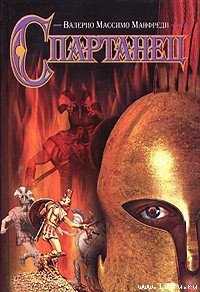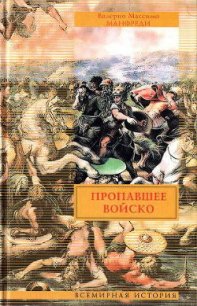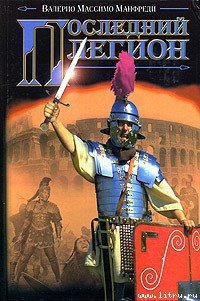Этторе Фьерамоска, или турнир в Барлетте - д'Азельо Массимо (библиотека книг .txt) 📗
Только Паредес мог осмелиться оседлать этого страшного зверя, который еще не отвык от вольной жизни и теперь, среди шумной толпы, бесновался, храпел и брызгал слюной, как разъяренный лев.
Но дородность всадника, его тяжелые доспехи и мундштук длиной в пол-локтя, натиравший до крови рот коня, смирили его буйный нрав, и после бесчисленных прыжков, от которых все разбежались, конь, видимо, принял мудрое решение признать власть Диего Гарсиа, который словно врос в седло и только посмеивался над его бесплодными усилиями.
Цвет итальянской молодежи сопровождал испанскую знать. По бокам Этторе Фьерамоски ехали его ближайшие друзья: Иниго Лопес де Айала и Бранкалеоне. Наш герой был одет в голубой атласный плащ с серебряным шитьем — подарок Джиневры и Зораиды. Фьерамоска слыл самым ловким всадником во всем войске. Под ним был жемчужно-серый конь с темной гривой, подаренный ему синьором Просперо и обученный самим Этторе так искусно, что, казалось, он не нуждался ни в узде, ни в шпорах, чтобы выполнять малейшую волю хозяина.
Видно, Фьерамоске во всем и повсюду суждено было быть первым.
Совершенство его форм, изящество сложения особенно ясно выступали в одежде из белого атласа, плотно, без единой морщинки облегавшей его бедра и ноги; он был так хорош собой, каждое движение его было исполнено такого благородства, что он привлекал все взоры и вызывал восторг толпы, глазевшей на кавалькаду. Юноша заметил всеобщее восхищение и невольно покраснел, поймав себя на мыслях, не очень простительных даже для слабого пола.
Последними шли оруженосцы этих рыцарей; как полагалось по обычаю того времени, каждый дворянин старался обзавестись слугами всевозможных национальностей; чем более странными и дикими они казались, тем выше их ценили; поэтому среди них можно было видеть турецких солдат в чешуйчатой броне, с ятаганами и кинжалами, гранадских мавров с остроконечными копьями, двух татарских лучников, служивших стремянными у Просперо Колонны, в необычайно яркой одежде с серебряными луками и колчанами; были тут даже негры из верхнего Египта со своими длинными дротиками. Лица всех этих варваров и европейцев, столь различные между собой, представляли великолепное, живописное зрелище.
Выход Гонсало был встречен салютом из всех орудий, расставленных на башнях и валах замка, и неумолчным трезвоном колоколов. Сквозь грохот то и дело прорывались звуки труб и других инструментов, и все вместе сливалось в единую гармонию, быть может не очень стройную, но зато вполне соответствовавшую духу воинственного веселья, охватившему войско.
Тут же Великого Капитана известили, что герцог Немурский со своими баронами уже вступил в Барлетту; Гонсало остановился и послал нескольких приближенных ему навстречу; спустя некоторое время французы появились на противоположной стороне площади. Как только герцог Немурский увидел, что Гонсало спешился и идет ему навстречу, он тоже сошел с коня, и оба полководца обменялись рукопожатием; француз в учтивых выражениях заявил, что счел бы себя величайшим из злодеев, если б явился на праздник, чтобы его испортить, задержав хотя бы на мгновение отца, спешащего обнять дочь, Герцог попросил разрешения присоединиться к кавалькаде, встречающей донью Эльвиру, ибо, сказал он, вражда на поле брани не мешает ему высоко ценить испанского полководца за доблесть, ум и другие достоинства. Ответ на такие слова мог быть только самым дружелюбным. Оба рыцаря снова вскочили на коней и первыми двинулись в путь, а за ними беспорядочной толпой направилась их свита, обмениваясь любезностями, на которые французы были непревзойденными мастерами во все времена.
Примерно на расстоянии мили от ворот кортеж остановился, так как вдалеке показалась многочисленная толпа, сопровождавшая паланкин доньи Эльвиры. С ней вместе прибыла дочь Фабрицио, Виттория Колонна, ставшая впоследствии супругой маркиза Пескары и прославившаяся силой духа, добродетелью и умом. Гонсало соскочил с коня и бросился обнимать дочь которая сошла с паланкина; прижав ее к груди, он повторял: «Hija de mi alma!» [21] и осыпал дочь ласками, необычайными, казалось, для этого сурового человека.
Этторе и Иниго, избранные им в оруженосцы доньи Эльвиры, подвели к ней иноходца и помогли ей сесть. Молодой итальянец преклонил колено, а девушка легко коснулась его ножкой и вскочила в седло с удивительным изяществом. Бледное лицо Фьерамоски окрасилось румянцем, когда он поднялся и был награжден улыбкой и взглядом доньи Эльвиры, не скрывавшей своей радости при виде столь молодого и красивого оруженосца.
Нрав доньи Эльвиры (быть может, из-за чрезмерной отцовской нежности) был, к несчастью, лишен той зрелой уравновешенности, которой можно ожидать от двадцатилетней девушки. Пылкое ее сердце и живое воображение редко подчинялись здравому смыслу который, правда, не так уж часто встречается как у слабого, так и у сильного пола, но зато представляет собою самый ценный после добродетели дар души.
Подруга же ее, Виттория Колонна, была наделена, помимо этого дара, необычайно острым, живым и быстрым умом. Красотой обе девушки могли соперничать друг с другом, но вряд ли можно было встретить двух красавиц, столь различных по нраву. Сияющие глаза доньи Эльвиры, улыбка, почти не сходившая с уст (быть может, оттого, что она знала, как эта улыбка красит ее), пленяли поначалу всех; но величавый, истинно римский облик дочери Фабрицио, прекрасные черты ее лица, подобные изображению Музы у греческих скульпторов, небесные лучи, сверкавшие из-под ее ресниц, глубже проникали в сердце и зажигали в нем любовь и восхищение, которые нелегко было погасить. Проницательный взор, возможно заметил бы в ней излишнюю долю гордыни; но впоследствии добродетель поборола ее и обратила на благо.
ГЛАВА XII
Все общество возвратилось в Барлетту и спешилось у крепости, где вновь прибывшим отвели лучшие комнаты. Свита разошлась, и каждый стал готовиться к охоте и турнирам, назначенным на этот день.
На площади была воздвигнута ограда с деревянными ступеньками и разукрашенными балконами; в специальных хлевах уже несколько дней содержались быки, молодые бычки и дикие буйволы, предназначенные для столь любимого нашими предками зрелища, в котором не гнушались принимать участие первейшие из вельмож. Тут-то, на площади, на специально окопанном и приспособленном месте и должно было происходить состязание; площадь была полна народу; крыши, окна, все мало-мальски возвышенные места были усеяны зрителями. Окончив подметать и поливать площадь, оруженосцы и лучники в разноцветных куртках стали ждать прибытия Гонсало.
Вскоре он приехал вместе с гостями и свитой; по правую руку от него ехал герцог Немурский, по левую — донья Эльвира. Объехав вокруг ограды, он спешился около самого большого нарядного балкона; под приветственные крики и восклицания, которыми народ охотно приветствует роскошь нарядов, блеск золота и всякое праздничное великолепие, синьоры уселись, и был подан знак выпускать первого быка.
Шум и споры из-за лучших мест, всегда возникающие в подобных случаях между зрителями, смолкли, когда хлев раскрылся. На арену выбежал большой бык; голова и передняя часть тела у него были совершенно черные, круп темно-серый; он несся вскачь по арене, пока не заметил, что выхода нет; тогда он остановился, подозрительно косясь кровавым глазом и взрывая передними копытами песок.
В эту минуту шумная ссора между двумя мужчинами происходившая в углу площади, привлекла взоры всех присутствующих. Никто, однако, не знал ее причины. Для того чтобы она стала известна читателю, мы на минуту вернемся к обитательницам монастыря святой Урсулы.
В тот вечер, когда Фьерамоска объявил обеим женщинам о предстоящем поединке с французами, не только Джиневра затрепетала при мысли о грозящей ему опасности, — Зораиду эта новость тоже повергла в смятение. Гордые и пылкие натуры нередко отличаются неприступным сердцем; но горе этому сердцу, если в него проникнет любовь. С того самого вечера Зораида не знала ни сна, ни отдыха. Ею овладела одна неотступная мысль; Зораида возвращалась к этой мысли снова и снова, никакая работа не шла ей на ум. Девушка не могла усидеть за пяльцами; она проводила долгие часы на балконе, бессознательно обрывая затенявшие его ветки и виноградные листья, внезапно вскакивала, будто ее ожидали важные дела, выбегала в сад, а потом, словно в забытье, замедляла шаги и останавливалась, глядя в землю. Пуще всего она искала одиночества и избегала взоров Джиневры, ежеминутно опасаясь, что подруга проникнет в тайну, которую она столь ревниво оберегала.
21
Дитя мое милое! (исп.)