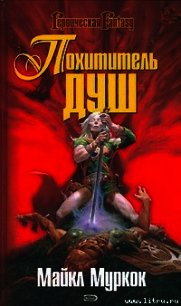Карфаген смеется - Муркок Майкл Джон (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
В те дни я еще не искал утешения в религии. Для меня душа и чувства были единым целым, и Божье дело я мог совершить только с помощью экспериментов и научных изысканий. Вероятно, от подобной гордости страдал и Прометей. Вероятно, я наказан по той же причине, что и он. Я хотел просветить мир, который, согласно моим убеждениям, стремился к покою и знанию, но, будучи молодым человеком, испытывал неведомые доселе эмоциональные и физические желания. Я хотел обнаружить пределы своих возможностей. В 1920 году политическая судьба Константинополя нисколько не тревожила меня. Я вполне резонно полагал, что турки побеждены навсегда, Великобритания или Греция будут управлять городом до тех пор, пока Россия не оправится от ран и не сможет выполнить свою задачу. Тем временем я надеялся испытать в этом городе как можно больше удовольствий. Я слишком долго сдерживал себя. В Киеве, после революции, мне часто удавалось развлекаться, но иногда удовольствие омрачалось неуверенностью. Так же обстояли дела и в Одессе незадолго до моего отъезда. Но в Константинополе не было ни большевиков, ни анархистов, угрожавших моему душевному спокойствию. Я не подозревал о так называемом комитете «Единения и прогресса» [63]. Я знал некоторых офицеров–младотурок и слышал о солдатах, которые отказались сложить оружие и скрылись во внутренних районах Анатолии, но полагал, что их вскоре схватят. Важнее всего было другое — мысль, что я свободен. Я обрел новую жизнь, я стал гражданином мира. Трагедия России больше не была моей трагедией. Я раскрыл чемодан со своими проектами и заново пересмотрел рисунки и уравнения, аккуратные записи и расчеты. Здесь было мое состояние и мое будущее. Я вскоре добьюсь своего. А пока я заслужил небольшие каникулы. Аккуратно одетый и причесанный, я запер дверь, спустился в лифте на первый этаж, отдал ключ портье, сказал, что вернусь к обеду, и погрузился в жизнь города. Я не боялся, что кто–то из моих одесских знакомых может узнать меня без мундира (а если бы и узнал, то наверняка испугался бы). Я не верил, что повстречаю здесь врагов киевских или петербургских времен — почти все они, вероятно, уже мертвы. Наверное, я был чрезмерно доверчив, я надеялся, что с легкостью справлюсь со всеми опасностями, я упивался свободой завоеванной турецкой столицы. И все же не могу сказать, что был таким уж глупцом. Я уже научился осторожности. В степных деревнях я страдал от страха, потому что не мог понять большинства жестов, знаков и обычаев, но здесь, хотя город был мне почти не знаком, я понимал почти все вывески и указатели. Те немногие, которые мне оставались неизвестными, удалось узнать очень быстро.
Я инстинктивно свернул в переулок, потом вышел на широкий проспект. Миновав небольшой парк, я вошел в темное кафе, заказал чашку кофе, осмотрел все и всех, усваивая информацию стремительно и непрерывно: то, как люди шевелили руками, как они говорили, когда успокаивались, когда становились агрессивными. Я знал, что также вызвал их интерес, потому что был очень хорошо одет. Но я об этом не беспокоился. Хорошее настроение — самая лучшая защита. Открытое сердце часто может спасти в самых ужасных столкновениях. В этом смысле простодушие — лучшее оружие городского жителя. И умение быть хорошим актером: каждый день в большом городе нам приходится играть множество едва различимых ролей. Все эти современные разговоры о подлинной идентичности просто бессмысленны. Мы — всего лишь сочетания происхождения, опыта и среды: зеленщик видит одну сторону человека, инспектор полиции — другую. Чем лучше это осознает городской житель, тем меньше он будет смущаться и тем легче ему будет действовать, когда понадобится.
Я наблюдал за дорожным движением. Я стоял на кладбище Пти Шамп, среди тополей и бананов, и смотрел на ту сторону Золотого Рога, на старый Стамбул, лежавший на семи туманных холмах. Я обернулся налево и увидел, что Босфор отделяет меня от азиатского Скутари. Меня поразило количество кораблей в порту. Суда заполняли гавань, как толпа пешеходов заполоняет городскую улицу. И все–таки это не имело никакого значения в сравнении с таинственным и бескрайним древним городом. Я никогда и представить не мог, что столица могла так разрастись и раскинуться на трех разных берегах. Российские города, включая Санкт–Петербург, казались крошечными, даже ничтожными на фоне турецкой столицы. Я не видел границ Константинополя. Город казался бескрайним, беспредельным, он словно занимал целую вселенную: бесконечный остров, существующий вне обычного пространства, остров, где соединяются все расы и все эпохи. Это впечатление было настолько сильным, что я задрожал от восторга. Мне не хотелось уходить из сада. Наконец где–то за стеной заревел осел (а может, имам), и мое настроение изменилось. Я зашагал по узкой тенистой улице, которая выглядела чуть чище прочих. Похоже, во всех домах квартировали европейские семьи. В конце этой улицы я обнаружил множество магазинов, где продавали бумагу, книги, духи, цветы, конфеты и табак — все это напомнило мне обычный киевский район. Книги были на всех европейских языках, включая русский. Я купил пачку папирос, разменяв один из золотых рублей. Я знал, что меня обманули при расчете курса, но не тревожился об этом. В итоге я вернулся на Гранд рю. У маленького мальчика, который что–то пищал на неведомом языке, я купил бутоньерку; паренек как–то странно шлепал губами. В киоске я приобрел русские газеты. Сидя за столиком на улице возле кафе, я пил шербет и читал газеты, удивляясь их высокопарной и пустой риторике. Я улыбался накрашенным девочкам в дешевых платьях, которые подмигивали мне, проходя мимо. Все женщины казались шлюхами, и все шлюхи казались мне красивыми. Здесь прогуливались десятки дам из высшего света в дорогих платьях парижских фасонов и в изысканных шляпках, некоторые из них пристально разглядывали меня. Мне нравился этот мир. Он был исключительно далек от привычной современной жизни.
Я равнодушно отмахивался от уличных продавцов, предлагавших мне все — от ягодиц своих братьев до подержанных кукол своих сестер. Я купил леденец за несколько курушей [64], попробовал его, а потом отдал ребенку, который попросил у меня денег. Вскоре я понял, где нахожусь. Самая возвышенная часть города, Пера, была в основном европейской, здесь располагались посольства и богатые особняки, офисы банкиров и транспортных компаний, лучшие магазины. У подножия Перы, за башней Галаты, возведенной генуэзскими торговцами, тянулись убогие извилистые переулки и наспех построенные бедняцкие хижины. Дальше за Перой виднелись пригородные виллы среди — просторных садов, лужаек и парков. Галатский мост вел через Рог к Стамбулу, над которым возвышалась Йени Джами [65], так называемая Новая мечеть, с ее невероятно тонкими башнями и группами куполов различных размеров. Стамбул оставался турецким городом, хотя там тоже был греческий квартал, родословные жителей которого восходили ко временам Христа. Здесь находились старейшие православные церкви, древние сводчатые цистерны, которыми все еще пользовались, и изначальные стены Византия, создания величественной культуры греков, которой турки могли подражать, но никогда не умели превзойти. Самым красивым зданием Стамбула оставалась Айя–София, видимая с Перы и выделявшаяся ярко–желтым легким куполом. Прекраснейшая из христианских церквей Оттоманской империи стала образцом, по которому турки до сих пор строили свои мечети. Большинство известных памятников находилось в Стамбуле, делая его истинно византийской территорией, но все–таки подлинным Константинополем была, наверное, Пера. Именно здесь византийцы хоронили своих мертвецов (до сих пор повсюду сохранилось множество кладбищ самых разных народов и религий), здесь османы селили иностранцев, присутствие которых было необходимо для их торговли. Этот город процветал от заката до рассвета, здесь царили тонкие интриги, экзотические удовольствия, таинственные преступления и еще более таинственные пороки, и все же в течение дня город приобретал благородный респектабельный облик. Так могла бы выглядеть типичная европейская столица. Конечно, мне было любопытно посетить Стамбул, но тяга к удовольствиям Перы оказалась сильнее. Я не пытался сдерживаться. Я был похож на ребенка, которому открыли неограниченный кредит в кондитерской. Я разработал нечто вроде программы.