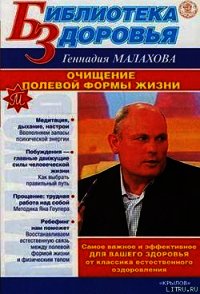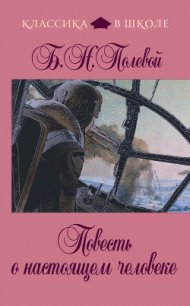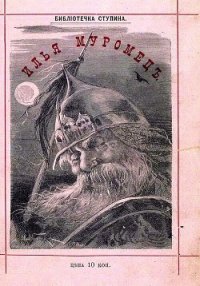Капитан полевой артиллерии - Карпущенко Сергей Васильевич (книги онлайн полные версии .txt) 📗
– Господи, да что ты такое говоришь! – воскликнула Маша со слезами на глазах, но Лихунов резко ее остановил:
– Нет, не перебивай! Дослушай! И вот я, командир батареи, с шестью прекрасными орудиями, лучшими в Европе полевыми орудиями, с прекрасно знающими свое дело людьми противостою целому полку и способен убить половину этих хорошо вооруженных, сытых и смелых солдат за каких-нибудь полчаса. Разве это не страшно, Маша? – спросил он шепотом.
– Страшно, – тоже шепотом ответила Маша, по лицу которой тихо текли слезы.
– Да, это страшно, на самом деле страшно, тем более что я ненавижу убивать. Но куда же мне деться от себя, от страшной, жестокой необходимости быть совсем другим, делать себя убийцей, когда желаешь для людей вечного мира? Но… я буду, буду убивать, потому что война эта должна быть кошмарно страшной, и тогда только она последней будет!
Они сидели молча друг против друга минуты три, и слышно было, как за стеной храпел поручик Раух, должно быть, мертвецки пьяный, как пробили одиннадцать раз часы на крепостной башне. Где-то в щели назойливо верещал сверчок, а под полом шебуршала беспокойная мышь. Лихунову сильно хотелось пить, но он не слышал, что Игнат уже трижды стучал в дверь, осторожно, робко предупреждая о готовности самовара.
– Когда ты рассказывала о гибели своего отца, – продолжил Лихунов, и Маша заметила, что голос его посветлел – наверное, он уже сбросил большую часть своей тяжкой ноши, – я, – и прости меня, – слушал об этом с каким-то особым удовольствием. То, что сделали они у вас в городке… все это было нужно. Потом мой подчиненный пленного австрийца застрелил, а я стоял и наблюдал, потому что что-то говорило мне тогда – так надо. И вот вчера я сам убил человека и, странно, ничуть об этом не жалею. Все это совершающееся сейчас зло необходимо, оно уже прокладывает путь для будущего мира. Но, знаешь, сегодня меня допрашивал военный следователь, подлец и очень глупый человек, но он, мне показалось, догадался. Сказал мне, что я недостоин быть защитником отечества. Не знаю, что бы было со мной, если бы меня на самом деле отстранили от командования.
Маша, сидевшая за столом со сцепленными руками, вдруг неожиданно строго попросила:
– Дай мне папиросу. Иногда я курю. Сейчас мне надо.
Лихунов удивился, но скорее не тому, что девушка попросила закурить, а ее жесткому тону. Он достал портсигар, открыл и протянул его Маше, которая дрожащими пальцами вытащила папиросу и, прикурив, стала жадно втягивать в себя дым. Теперь она казалась Лихунову очень похожей на ту строгую девушку, которая рассказывала ему о смерти своего отца.
– То, что ты мне рассказал сейчас… на самом деле ужасно, – сказала Маша, не глядя на Лихунова, – ужасно потому, что совсем несправедливо, и все мучения твои… они все впустую. Да неужели ты на самом деле считаешь, что страх кого-нибудь научит? Неужели ты думаешь, что те, на ком лежит вина за весь этот ужас, испытывают его?! Нет, Костя, они ко всему равнодушны, и стоны умирающих им не слышны! – Маша бросила окурок в пепельницу, поднялась со стула, с прижатыми к полной груди руками сделала несколько шагов по комнатке и остановилась как вкопанная. Слезы вновь потекли по ее щекам, и она воскликнула, плача:
– Костя, милый, да знаешь ли ты, что твое желание через убийства и злодейства войны привести людей к миру вечному оттого происходит, что ты не любишь никого! Вот, была у тебя когда-то семья, жена и дочь, так нелепо погибшие, но теперь у тебя никого нет, и ни печалиться, ни страдать о ком-то тебе нет нужды. Разве можешь ты, одинокий, весь этот ужас представить? Нет, не можешь! Тебе снова полюбить надо, того заиметь надо, чьей смерти ты больше своей собственной бояться будешь! Только через любовь такую и можно к миру прийти.
Лихунов посмотрел на Машу насмешливо. Ему показались наивными ее слова о любви как пути к спасению людей от войн. В ее предложении было что-то от христианства, а к религии Лихунов хоть и относится с уважением, привитым в детстве, но в действительности ее морали не верил, зная, что людей любить невозможно. Однако в Машиных словах на самом деле было очень мало от христианства, и она призывала любить не каждого, как призывало к тому Евангелие, но кого-то одного. И Лихунов снова усмехнулся, представив, сколь наивен предложенный Машей путь. Разве не имеет каждый воин, жестокий, отважный, любимого человека? И разве остановит кого-нибудь в бою воспоминание о возлюбленной или об оставленных дома жене и детях?
– Ну, и чьей же смерти мне больше своей собственной бояться надо? – улыбнувшись, спросил Лихунов.
– А ты разве не знаешь? – еле слышно протрепетали на полных губах Маши негромкие слова, и девушка потянулась рукой к лампе, подвернула фитиль, так что угловатые тени на стенах почти исчезли. Потом она развязала узкий матерчатый поясок и положила его на стол, на мгновение задумалась. Движения ее были уверенными и неторопливыми. Подняв локти, Маша недолго повозилась с крючками платья на спине, пошуршав им, быстро сняла через голову, растрепав свои густые вьющиеся волосы. Лихунов не отворачивался и словно в гипнозе смотрел на раздевающуюся девушку, чувствуя, как наполняется его убогая комната запахом какой-то иной, очень здоровой, мирной жизни. Маша стояла перед ним в одном лишь низком корсете и в белой нижней юбке, беззащитная и властная одновременно с бессильно опущенными руками, но гордо поднятой головой.
– Подойти ко мне, – просто сказала она, и Лихунов безропотно подошел. В нем, давно не прикасавшемся к женщине, отвыкшем на скудном карпатском пайке от присутствия в своем теле обыкновенного желания, жило сейчас сомнение, но он подошел, и девушка тотчас положила ему на плечи свои полные, мягкие руки, притянулась к нему своим прекрасным телом, немного пахнущим госпиталем и какой-то сухой травой. Лихунов почувствовал, как дрожит это восхитительное тело, и все его мужское, но какое-то высокое, чистое отозвалось желанием покорить и защитить одновременно это дрожащее существо, откровенно просившее любить его и обещавшее взамен любовь.
– Костя… ты первым будешь…- прошептала она ему на ухо, и Лихунов, едва не падая от внезапного сердцебиения, беспощадного и сладкого, обнял ее.
– Маша, Машенька, – горячо дыша, прошептал он сухими, трясущимися губами, – любимая, я никогда…
Но стук в окно, неуместный, безжалостный, ворвался в их счастливый мир, мгновенно потускневший и принявший сухую, злую форму убогой комнаты.
Маша в страхе и смущении, закрывая грудь руками, отпрянула в угол комнаты, а Лихунов, взяв в руки лампу, подошел к окну и отворил его. На улице, под окном, с фонарем в руках, читая что-то в развернутом листе бумаги, стоял незнакомый Лихунову фельдфебель.
– Вы будете капитан Лихунов, что ли? – сердито спросил фельдфебель.
– Да, я Лихунов. Чего тебе надо?
– А извольте в штаб немедленно пожаловать, к их превосходительству начальнику артиллерийскому. – И добавил, растворяясь в темноте: – Просили не мешкать.
Лихунов затворил окно, повернулся. Маша, уже одетая, сидела у стола и не смотрела на него. Лихунову было жаль девушку, жаль себя, он негодовал на случай, прервавший тот счастливый, упоительный момент, разбивший чувство радостного предвкушения грядущего наслаждения, но другой мужчина, мужчина-воин, ненавидевший войну, уже гордо поднял голову и расправил плечи.
– Маша, меня вызывают…
– Да, я слышала, – не поворачивая головы, произнесла девушка.
– Меня вызывают, и я думаю, для того, чтобы отправить на позиции.
– Ты, разумеется, доволен.
Лихунов молчал. Подошел к Маше и положил ладонь на ее мягкое плечо.
– Да, я ждал этого момента, вернее… момент этот сам меня нашел. Я нужен войне, Маша.
Маша порывисто схватила его руку, поднесла к мокрому от слез лицу, принялась целовать и все говорила быстро:
– Нет, ты не войне нужен, мне, мне, только мне! Милый, дорогой мой, помни обо мне и о себе тоже помни! Если тебя убьют, для меня уже не будет жизни! Знай, что ждут тебя, любят, да, да, тебя, лишь тебя одного!