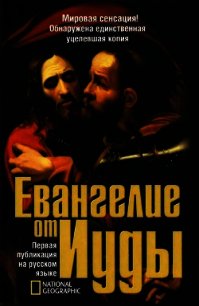Христос приземлился в Гродно. Евангелие от Иуды - Короткевич Владимир Семенович (книги бесплатно полные версии txt) 📗
Некоторые люди восседали на чёрных или мышиных злых мулах, и по этому можно было догадаться, что едут особы духовного звания. Но, если бы не пурпурная кардинальская мантия одного, если бы не епископский плащ другого, если бы не серая доминиканская и не лиловая православная рясы двух остальных, любой наблюдатель мог бы взять это под сомнение.
Из-под ряс выглядывали кольчужные воротники, под плащами были золочёные латы с солнцем на груди. (В солнце превращалась голова Медузы Горгоны, которую любили чеканить на своих латах поганцы; превращалась потому, что, как известно, не к лицу христианам носить на груди поганский знак. И вот вместо лица Медузы грозился с лат солнечный диск, а вместо змей волнисто разбегались лучи.).
Против того, что это попы, говорило и иное. Все до единого имели оружие, на боку или в руках. Еловые — полесские, тисовые — западные и страшные белорусские луки из двух скреплённых рогов серого лесного быка, колчаны-тулы, пищали; гигантские, в человеческий рост, двуручные мечи с волнообразным или прямым лезвием, без ножен, так как из них невозможно вытянуть самому лезвие такой длины; мечи средней длины и короткие корды. Азиатские, прямые, как меч, сабли и сабли булатные, змееподобные; персидские, узкие, как аир, и острые, как жало; турецкие ялманы [17] из стали, которая идёт голубыми звёздочками; ятаганы, похожие на серпы и предназначенные, как и серпы, для удара вогнутой стороной; приднепровские белорусские копья полуторной длины и поэтому бросаемые ногой, с подъёма ступни, и белорусские же клыки, короткие мечи с лезвием широким и толстым, как коровий язык, и длиной в двадцать пять дюймов, с месяцеподобным концом рукояти для упора в живот или грудь, когда бросаешься на врага, и двумя упорами для рук, клыки, предназначенные для смертельной рукопашной в тесноте. И на всём этом — пестрота отделки, эмали, золота, рубинов, ажурных накладок. А над всем этим, под шишаками, арабскими зерцалами, кольчужными сетками и булатными шлемами — глаза, которые и минуты не задумаются над тем, применить эту сталь или не применить.
Изумился бы этому только чужеземец. На протяжении нескольких столетий, а особенно в то время, дождём сыпались декреты, в которых запрещалось духовным лицам носить оружие в мирное время, похваляться им, злоупотреблять. И однако никто не обращал внимания на декреты и на угрозы, что были в них. В крайнем случае, можно было спросить даже и самого Папу, где он видел мир.
И поэтому вооружены были все, кроме нескольких женщин.
Да, женщин. Третье, что могло бы заставить усомниться в духовном сане всадников, было то, что с ними — на отдельных конях, а то и просто за спинами — сидели женщины. Раскрашенные, белёные, с подплоёнными волосами под золотыми с алмазами сетками, с обнажёнными почти до сосков грудями, на которых прислужницы мастерски вывели тонюсенькими карандашиками паутинку лазурных жилок. Зубастые, очевидно хищные, очевидно неопределённого поведения — всё равно, знатная это была дама или женщина с бесстыдной улицы.
Некоторые женщины были также вооружены. У остальных сидели на перчатках соколы.
С гиком, выкриками, хохотом мчал конный поезд. Бежали на сворках гладкие волкодавы и борзые.
Всадники ворвались в деревню, как орда. Замелькали по сторонам серые домишки, халупы, сложенные из торфяных кирпичей, и просто землянки.
Человек, сидящий у дороги на куче навоза, протянул потрескавшуюся, как земля, руку. Тот, что ехал впереди, достал из-под пурпурной мантии, из кошелька, подвешенного под мышкой, медную монету и бросил.
— Напрасно вы это, — сказал ему епископ.
— Для вас у меня есть фамилия, пан Комар.
— Напрасно вы это, пан Лотр.
— Почему?
— Разве хватит на всё это быдло? Работать не хотят, руку тянут. И потом... если бы это увидели другие — они бы набросились, как безумные. Могли бы и разорвать. И, во всяком случае, пришлось бы применить оружие. Лучше прибавить ходу и сейчас.
Кавалькада помчала галопом. Из-за кучи навоза показалась голова четырёхлетней девочки.
— Что он тебе дал?
— Две буханки хлеба, дочка. Чистого хлеба.
— А хлеб вкусный?
— Вкусный.
Девочка зачарованно глядела вслед охоте:
— Краси-и-вые.
— Понятно, красивые. Это же не мы, мужики. Покровителю перед Паном Богом нужно быть красивым. Иначе его Пан Бог и во дворец к Себе не пустит.
Кавалькада снова вырвалась в поля, оставив за собой хаты, похожие на кучи навоза, и готический изящный костёлик, подобный друзе горного хрусталя. Кони пошли медленным шагом.
— То же, что и двадцать лет назад, когда я покинул эту землю, — тихо сказал Лотр. — Только тогда здесь было куда богаче. Богатая ведь земля.
Комар, нахмурив тяжёлые брови, глядел Лотру в лицо: испытывает, что ли? Но это лицо, улыбчивое, белое и румяное, благородное, казалось бы, на самый поверхностный взгляд, было просто доброжелательным и красивым.
— Дело веры требует жертв, — уклончиво заметил епископ.
— Известно.
— И особенно, если учесть, как тяжело болен этот край схизмой.
— Бросьте. Вон та схизма, митрополит Болванович, скачет за нами. Неплохой человек.
— У этого неплохого человека отобрали за последнее время две церкви. Вот так. И не потому, что он плохой, а потому, что это — чужое влияние на земли, ещё не ставшие нашими.
— Вы разбираетесь, пан Комар... Кстати, спасибо вам за вашу бывшую пасомую. — Он откинул голову назад, будто показывая затылком на женщину, сидящую за его спиной. Усмехнулся: — Таким образом, вы для меня, по сути, то же, что для мирян тесть.
— Ну, если можно представить себе тестя, который... — грубое, резкое лицо Комара искривилось в лёгкой усмешке.
Женщина глядела на него с ожиданием и укором.
— А ведь красивая? — спросил Комар.
— Красивая. Ни в Италии, нигде я не видел таких.
Женщина была вправду красива. Безмерные чёрные глаза, длинные, как стрелы, ресницы, маленький вишнёвый ротик, снежной белизны и нежности кожа лица и детских рук. Гибкая, как змея, с высокими небольшими грудями, она, хоть и было ей неудобно, сидела грациозно, гибко, мягко придерживаясь ручкой за плечо Лотра.
— Так вот и старайся, — приказал ей Комар. — Служи своему новому пану, как и надлежит служить такому высокому гостю.
— Если можно считать гостем человека, приехавшего на год и более, — вставил Лотр.
— Мы гостеприимство не днями измеряем.
— Знаю. Сам здешний.
— Ну вот. И потому, девка, служи без нареканий и глупостей. Слышишь, Марина?
Румянец появился на лице женщины. А потом надежда, с которой она глядела на епископа, угасла. Ушла теплота, глаза сухо поблескивали.
— Вот только грустная что-то, — мягко промолвил Лотр.
— Погрустит и бросит. Она привязчивая, пан. Преданная. И на любовь охочая.
Говорили они так, словно её вовсе и не было с ними.
— А если будет кислым лицом настроение вам портить — накажите, — сказал Комар.
— Не премину воспользоваться советом, — улыбнулся кардинал. — Вот только вернёмся домой.
Женщина даже не вздохнула. Только опустила голову и отвернула её прочь от епископа. С той стороны не ехал никто, а если бы ехал, то заметил бы в женских глазах отчаяние оскорблённой гордости и отринутой привязанности, бессильный гнев и сухую ненависть.
— Кстати, — проговорил Лотр. — Позовите мне этого... доминиканца... Как же его?
— Флориан Босяцкий. Монах-капеллан костёла псов Пана Бога.
— Вот-вот...
— Собираетесь вернуться с ним?
— Зачем? Не можем же мы лишить нашего общества и приятной беседы отца Болвановича и этого... с ним... пана Цыкмуна Жабу. Он войт [18] города?
— Войт.
— И, кажется, не отличается талантом собеседника?
— Он и умом не отличается.
— Ну вот. Пока будем говорить, подбросьте им своего... Кстати, девка надёжная?
— Можете свободно говорить обо всём. Сам убедился. Впрочем, ей известно, что бывает за болтовню. А о важном можно и по латыни.
17
Ялман — сабля, расширенная и иногда утяжелённая на конце.
18
Войт — староста. (Примеч. перев.).