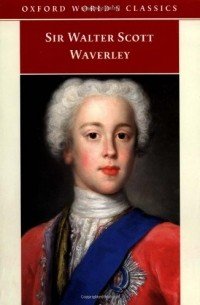Эдинбургская темница - Скотт Вальтер (читать полностью бесплатно хорошие книги .TXT) 📗
Когда Батлер вошел, старый Динс сидел у очага, держа в руках истрепанную карманную Библию, спутницу всех странствий и опасностей его юности, завещанную ему на плахе одним из тех, кто в 1686 году отдал жизнь за веру.
Солнце, проникая через маленькое окошко позади старика и «золотя пылинок рой», по выражению шотландского поэта того времени, освещало седины старика и страницы священной книги. Выражение стоической твердости и презрения ко всему земному придавало благородство резким и отнюдь не красивым чертам его лица. Он напоминал древних скандинавов, которые, по словам Саути, «разят нещадно и выносят стойко». Все вместе составляло картину, по освещению напоминавшую Рембрандта, а по выразительности и силе достойную Микеланджело.
При входе Батлера Динс поднял глаза, но тотчас же вновь отвел их, и на лице его выразились смущение и душевная боль. Он всегда так надменно обходился со светским ученым, как он называл Батлера, что видеть его теперь было для старика особенно унизительно, как для умирающего воина в балладе, который воскликнул: «Граф Перси видит мой позор!»
Динс поднял в левой руке Библию, заслонив ею лицо, а правую протянул вперед, как бы отстраняя Батлера; при этом он попытался отвернуться. Батлер схватил эту руку, столь часто помогавшую ему в его сиротстве, и, обливая ее слезами, с трудом мог вымолвить: «Да утешит вас Бог! Да утешит вас Бог!»
– На это я и уповаю, друг мой, – сказал Динс, обретая некоторую твердость при виде волнения своего посетителя. – Он один может ниспослать утешение, когда будет на то его святая соля. Уж очень я возгордился тем, что в свое время претерпел за веру, Рубен. Вот и придется теперь смиряться и привыкать к насмешкам. Не я ли превозносился над всеми, кто жил в тепле, покое и сытости, пока я скитался по болотам с изгнанными борцами за веру – с праведным Доналдом Камероном и достойным мистером Блэкаддером? Не я ли гордился перед Богом и людьми, что удостоился в пятнадцать лет стоять у позорного столба в Кэнонгейте за правое дело ковенанта? Вот какая честь выпала мне в юности, Рубен! Не я ли всякий день и всякий час свидетельствовал против богомерзких ересей? Не я ли возвышал голос против позорящих страну и церковь гнусностей, подобных унии, терпимости и патронату, навязанных нам этой несчастной – последней в злополучном роде Стюартов? Не я ли обличал нарушения прав церковных старейшин? Я ведь даже издал памфлет под названием «Крик филина в пустыне», который был отпечатан в Баухеде и продавался всеми коробейниками в городах и в селах. А теперь! ..
Тут он умолк. Батлер, хотя он и не вполне разделял взгляды старика на церковное управление, был, разумеется, слишком гуманен, чтобы прервать его, когда тот с законной гордостью перебирал все, что претерпел за веру. Более того – когда Динс умолк, подавленный горем, Батлер поспешил со словами утешения:
– Все знают вас, почтенный друг мой, за стойкого и испытанного слугу Христова, за одного из тех, кто, по словам святого Иеронима, per infamiam et bonam famam grassari ad immortalitatem, то есть «не ища доброй славы и не страшась дурной, имели целью жизнь вечную». Вы были одним из тех, к кому верующие взывают в ночи: «Сторож, сколько ночи?» И, быть может, ниспосланный вам тяжкий искус тоже имеет свое назначение.
– Так я и истолковал его, – сказал бедный Динс, отвечая на пожатие Батлера, – и хотя не обучался чтению Святого писания на иных языках, кроме родного шотландского (латинская цитата Батлера и тут не ускользнула от его внимания), я твердо его усвоил и надеюсь безропотно снести и этот удар судьбы. Но, Рубен! Помысли о церкви, где я, недостойный, с юных лет бессменно состою старейшиной… Что скажут враги церкви о столпе ее, который не сумел уберечь от греха собственное дитя? Как будут они ликовать, когда узнают, что дети избранных творят те же мерзости, что и отродие Велиала! Но буду нести этот крест! Видно, все мое благочестие было подобно блеску светляка на пригорке в темную ночь. Он потому только и светит, что все вокруг темно, а взойдет солнце из-за гор – и всем видно, что он не более как червь. Так-то вот и со мною, и нечем мне прикрыть наготу мою…
Тут дверь вновь отворилась, и вошел мистер Бартолайн Сэдлтри; сдвинув треугольную шляпу на затылок и подложив под нее для прохлады фуляровый платок, опираясь на трость с золотым набалдашником, он всей своей осанкою изображал богатого горожанина, которого ожидает со временем место в городском управлении, а быть может, даже и само курульное кресло.
Ларошфуко, который сорвал покровы со стольких тайных людских пороков, говорит, что мы находим нечто приятное в несчастьях наших друзей. Мистер Сэдлтри очень рассердился бы, если бы кто-либо вздумал сказать ему, что несчастье бедной Эффи и позор ее семьи были ему приятны, и все же нам кажется, что возможность разыгрывать из себя влиятельное лицо, производить дознание и толковать законы вполне вознаграждала его за то огорчение, которое доставляло ему несчастье жениной родни. Наконец-то ему досталось настоящее судебное дело вместо незавидной роли советчика, в котором никто не нуждается. Он радовался, как ребенок, получивший в подарок первые настоящие часы с настоящим заводом, стрелками и циферблатом. Кроме этого интересного предмета, мысли Бартолайна были заняты делом Портеуса, расправою с ним и возможными последствиями всего этого для города. Это уж было, как говорят французы, embarras de richesses – избыток богатств. Он вошел к Динсу с горделивым сознанием, что несет важные известия и может наговориться всласть:
– Доброго здоровья, мистер Динс, здравствуйте, мистер Батлер; а я и не знал, что вы между собою знакомы.
Батлер что-то пробормотал в ответ; легко представить себе, что знакомство с Динсами, составлявшее его сердечную тайну, он не стремился разглашать среди посторонних, каким был для него Сэдлтри.
Почтенный горожанин, раздуваясь от сознания своей важности, уселся в кресло, отер лоб, отдышался и испустил глубокий и солидный вздох или даже подобие стона:
– Ну и времена, сосед! Ну и времена!
– Грешные, позорные, нечестивые времена, – откликнулся Динс тихим и подавленным тоном.
– Что до меня, – продолжал с важностью Сэдлтри, – от несчастий моих друзей и моего бедного отечества я совсем потерял голову и отупел – словно inter rusticos note 38. Только что я успел вчера обдумать, что можно сделать для бедной Эффи, и перебрал весь свод законов, а утром просыпаюсь и узнаю, что толпа взяла да и повесила Джока Портеуса на красильном шесте… Ну, тут уж у меня все разом из головы вылетело.
Несмотря на свое глубокое горе, Динс обнаружил при этих словах некоторый интерес. Сэдлтри тотчас пустился во все подробности восстания и его последствий. Батлер тем временем попытался поговорить с Джини наедине. Случай скоро представился. Она вышла из комнаты, как будто по делам хозяйства. Спустя несколько минут вышел и Батлер; Динс, оглушенный говорливостью своего нового гостя, едва ли заметил его уход.
Разговор их произошел в кладовой, где Джини держала молочные продукты. Когда Батлеру удалось пройти туда вслед за нею, он застал ее в слезах. Постоянно занятая каким-нибудь полезным делом, даже во время беседы, она теперь безучастно сидела в углу, подавленная тяжелыми думами. Однако, когда он вошел, она осушила глаза и первая заговорила со свойственной ей простотой и искренностью.
– Хорошо, что вы пришли, мистер Батлер. Я… я хотела сказать, что все должно быть между нами кончено, – так будет лучше для нас обоих.
– Кончено? – сказал удивленно Батлер. – Но почему же? Вас постигло тяжкое испытание, но в этом не повинны ни ты, ни я; оно послано Богом, и его надо претерпеть. Но как может это разорвать помолвку, пока помолвленные сами того не захотят?
– Рубен, – сказала молодая женщина, глядя на него с нежностью, – вы всегда думаете обо мне больше, чем о себе, а теперь я должна подумать прежде всего о вашем счастье. У вас честное имя, и вы служитель Божий. Говорят, что вам суждено стать большим человеком в церкви, а мешает вам только бедность. Бедность, Рубен, – плохая подруга, это вы слишком хорошо знаете. А дурная слава – еще того хуже, но этого вам не доведется узнать из-за меня.
Note38
среди мужланов (лат.).