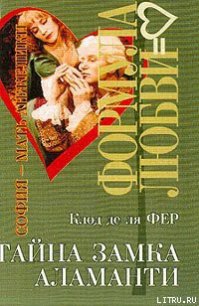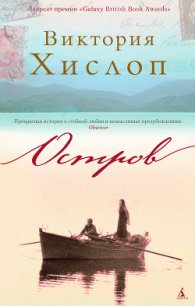Страсти по Софии - де ля Фер Клод (читать книги бесплатно полные версии TXT) 📗
Я невольно залюбовалась им.
Первой жертвой моей стал именно этот разбойник — с красивым телом, но со слабым умом. Он знал, что может понравиться женщине, видящей его голым, — и потому, сняв однажды одежду, оставшись в одних штанах, уже не одевался до самого вечера. То уходил куда-то, то возвращался, лишь изредка поглядывая в мою сторону со столь постной и нелюбопытной миной на лице, что было сразу видно: ему до смерти хочется упасть в мои объятья и забыться в них. Мускулами при этом он играл умеючи, перекатывал их под кожей к удовольствию своему и моему.
И я не скрывала своего восторга при виде подробного представления. Никто до тех пор не вожделел меня и не преследовал столь настойчиво. Ну, ловила на себе мужские взгляды, ну, понимала, что не могу не нравиться этим кобелям, ну, слышала восторженные шепотки за спиной, ну, намекали мне отцовы Лючии, что с моей красотой не избежать мне толпы поклонников и воздыхателей… Да мало ли что было в замке. В постоялом дворе на меня пялились, как на племенного быка, привезенного однажды отцом в наш замок из Падуи. Или из Сорренто?.. Не помню уже… Один постоялец даже руку протянул к моей груди, да я полосанула по ней ножом — он и заскулил, отпал в сторону, а потом зашипел что-то грозное. Остальные лишь пошуршали втихомолку — да смолкли. Сейчас понимаю, что дело до ночи не дошло. В темноте бы меня скрутили и изнасиловали всей оравой. Так что похищение разбойником спасло меня от унижения. Но, глядя на то появляющегося у моего камня, то исчезающего Меркуцио (этого бугая звали именно так), я стала понемногу понимать, что беда, обошедшая меня в постоялом дворе, может случиться и здесь. Не скрою, мысль об изнасиловании меня в то время еще пугала.
И именно потому я принялась строить глазки Меркуцио, восхищаться его мускулатурой, подмигивать ему на виду у Лепорелло и Григорио (так звали второго разбойника), смеяться с ним вместе над злящимся при виде наших проделок Лючиано. Ибо всей женской сутью своей понимала, что нравлюсь им всем, что все четверо бандитов готовы стащить с меня платье и обработать так, чтобы самим свалиться с ног и меня измочалить до изнеможения. Это были самцы, такие же, как и кабаны на пастбище, лезущие на свиней, как быки, вскакивающие на коров, как козлы, лезующие даже на овец. И предугадать их поступки было легко.
Ревность! Вот истинная основа любого раздора. Отец говорил мне, что самцы ненавидят друг друга из зависти и ревности, более не из-за чего." В любом раздоре, — говорил он, — лежит в основе ревность. И потому, если у тебя во врагах хотя бы двое мужчин, ты должна стравить их. Любым способом. Властью ли поманить, деньгами, любовью ли… И они превратятся в ничто".
Ключом к душам моих разбойников могла быть плохо скрываемая ими похоть. То есть, сама еще не зная того, я выбрала самый надежный женский способ стравить их — заставить ревновать.
Лепорелло все смотрел, смотрел на нас, слушал наши с Меркуцио шуточки, глупые в общем-то, ни о чем, но со стороны кажущимися исполненными глубокого смысла и ведущие к нашему сближению, смотрел, слушал, да и не выдержал:
— Ты что ходишь здесь голяком?! — заорал он на Меркуцио в середине одной из шуток о сравнении его ноги с ляжкой вепря. — При даме!
Пардон, — извинился разбойник по-французски, и действительно одел рубаху. Но так, что стал еще более привлекателен: Меркуцио не стал застегивать ее на груди, а связал нижними концами у живота, отчего возле торчащего бугром гульфика заколыхались два прелестных синих кончика, а выпуклая грудь, выпирающая из-под отворотов, стала казаться еще больше и еще красивей.
Все эти приятные взгляду каждой женщины выпуклости и болтовня о них настолько меня раззадорили, что я почувствовала прилив желаний в сокровенных местах, а голове промелькнула мысль о том, что этой ночью можно будет отдаться этому мерзавцу и уговорить его вместе сбежать. Куда? Да хотя бы в отцов замок. Дом мой, по-видимому, не так далеко, раз разбойники откуда-то отсюда заметили суматоху, поднятую там после моего побега.
Тогда Лепорелло достал старую шпагу без ножен и принялся, с сердитым выражением лица, точить ее о камень, особо уделяя внимание острию. Лючиано, в свою очередь стал пересыпать порох и заряжать единственный на всю шайку пистолет и тоже поглядывать в сторону Меркуцио неодобрительно. Григорио покуда в безмолвный этот поединок не вмешивался. Он стряпал. Точнее, сначала уходил за спрятанным где-то в прибрежных кустах и обернутым листьями какой-то травы мясом, потом отделял мякоть от большой толстой кости, которую опять завернул в листья и унес на прежнее место. А уж потом стал мясо резать, солить, замачивать в вине.
Работу эту делал Григорио столь основательно и столь долго, что времени это у него заняло почти что до вечера. Когда же он, уложив в узкую траншею хрупкие сухие ветки ясеня, в обилии усыпавшие землю вокруг большого дерева, зажег их, наступили сумерки…
Я ж устала об бесконечной никчемной болтовни, лежала на брошенной мне бараньей шкуре, плохо выделанной и потому смердящей, смотрела на пляску желто-голубых огоньков, на сыплющие вверх и слегка в сторону быстро гаснущие искорки, вдыхала запах дыма и слушала неторопливый переговор усевшихся напротив огня Лепорелло и Лючиано:
— Вот когда темнеет, я спокойней становлюсь… — рассказывал отец падшей девушки. — Я и к Серому черепу оттого ушел. Он по ночам нападал. Или подлавливал на закате путников. И дань собирал с пастухов. За то, что стада их не разгонял, скота зазря не резал. Убивали мы редко — для страху только. Ведь если крестьян не пугать, то и бояться не будут, платить перестанут. У нас покойный Алехандро был мастер истории сочинять. Натворим на сольдо, а он распишет потом в придорожном кабаке на сто французских экю.
— А про нас и придумывать не надо, — ухмыльнулся Лепорелло и глянул в мою сторону. — Угомонилась чертовка. Я уж думал, усталость ее совсем не берет.
— Ага… — кивнул Лючиано. — Ловко она нас скрутила. Ты теперь ночь спать не будешь — станешь их сторожить.
— Кого?
— Меркуцио, кого ж еще? Разве не видишь? Как он ее обхаживает!
— Попридержи язык.
— Я-то что… — пожал плечами разбойник. — Язык придержать легче, чем женилку.
Лепорелло и не двинулся телом. Как сидел, так и сидел, но рука его быстро, словно выпущенная из лука стрела, слетела с колена и врезала Лючиано по лицу.
— Мразь! — сказал при этом с брезгливостью в голосе. — Она — дама. Графиня! Голубая кровь.
Лючиано, поскуливая, отполз, а после встал и ушел в сторону пещеры.
А я устала уже так, что и не оценила поведения атамана, мне хотелось спать и есть. Но спать — больше. Глаза слипались…
Разбудил меня голос Лепорелло:
— Синьора! — и тут же заботливо. — Да она никак сомлела…
Я торопливо распахнула глаза и недовольно проворчала:
— Вот еще. Сначала накормите.
И тут увидела в руке у атамана тонкую острую палочку, на которой были нанизаны комочки пропеченного на угольях мяса. Пахло это столь восхитительно, что у меня и сон пропал, и слюни потекли. Вырвав из рук Лепорелло палочку и кусок пресной лепешки, я с наслаждением вгрызлась в сочащуюся теплым соком плоть.
— Да, поесть ты горазда, — улыбнулся Лепорелло. — Видать, дома хорошо кормили?
— Хорошо, — ответила я сквозь набитый рот.
— И одевали неплохо?
— Хорошо, — повторила я.
— И хозяйкой надо всем была, никто тебя не наказывал.
— Угу… — кивнула я на этот раз, понимая уже, к чему он клонит.
— Так какого же черта тебя понесло из дома? — спросил он наконец.
Я промолчала, а он ответил за меня:
— От жира бесишься, девка. Все у тебя есть, а все-таки было мало. Захотела большего, чем тебе на роду положено. А все, что больше необходимого — это уже грех. Вот и расплата тебе.
У меня аж мясо в глотке застряло. Я чуть не поперхнулась от этих слов. Как точно обо всем он догадался! Будто знает.
— Замуж тебе надо, синьора. Тогда и дурь пройдет. Это со всеми девками так бывает: как понесет, понесет — удержу нет. А потом — прозрение. И у тебя так. Возвращаться надо домой, выходить замуж.