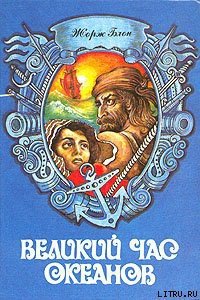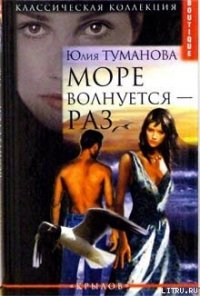Охотник на водоплавающую дичь - Дюма Александр (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
— Да, я знавал эту собаку, как и ее хозяина. То был отважный пес по кличке Флажок.
— А как же звали хозяина?
— В округе, как он вам сам сказал, его называли не иначе как охотником на водоплавающую дичь, но его настоящее имя — Ален Монпле. История этого человека — подлинный роман.
— Я так и подумал, когда увидел его. В нем проглядывало нечто дикое, страшное и одновременно доброе — все это свидетельствовало о незаурядной натуре. Будь я решительнее, я бы попросил его рассказать мне свою историю.
— В ту пору, когда вы с ним встретились, эта история была только на полпути к завершению — она представляла бы для вас лишь частичный интерес, как книга без развязки. С тех пор события получили развитие, и роман Алена Монпле завершился.
— Итак, вы снова повторяете слово «роман»!
— О, любезный друг, если под словом «роман» вы подразумеваете нечто вроде сплетения приключений, лежащего в основе сюжетов «Королевы Марго», «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», то мы, конечно, далеки от желаемого. Но если вы признаете, что в «Полине», «Консьянсе блаженном» и «Ашборнском пасторе» есть нечто романическое, то мы начнем понимать друг друга.
— Голубчик, в этом вопросе мы всегда сможем договориться. На мой взгляд, любой роман предполагает взаимную борьбу людей и конфликт страстей. Я писал однотомные романы, книги объемом в пятьдесят страниц, а также в одну главу, и, возможно, это не худшие из моих произведений.
— Мне бы хотелось приобрести привычку писать: тогда в Одно прекрасное утро я прислал бы вам историю Алена Монпле от «А» до «Я» — от «Отче наш» до «Аминь», и вы увидели бы, что я вас не обманул.
— Сделайте это.
— Может быть.
— Итак, когда же я смогу получить вашу рукопись?
— О милый друг, мне до вас далеко: я не сочиняю книги томами. Составление одного лишь счета для прачки отнимает у меня два часа каждую неделю. Придет время, я со свежей головой сяду за эту повесть и, когда она будет полностью завершена, аккуратно пронумерована, а все точки и запятые в ней тщательно расставлены…
— … и что же?
— Тогда, по всей вероятности, я брошу рукопись в огонь и напишу вам всего пару строк: «Мой дорогой Дюма, я определенно не создан для творчества».
— Не вздумайте сделать такую глупость, Шервиль, а не то я предъявлю вам иск и потребую возмещения убытков. Я даю вам неделю, месяц, год или два, но знайте: я рассчитываю получить от вас историю Алена Монпле.
Шервиль с улыбкой склонил голову на грудь, а затем, после недолгой паузы, приподнял ее и сказал:
— Клянусь честью, я над этим подумаю. Было одиннадцать часов. Одиннадцать часов — это позднее время для Брюсселя. Сосчитав количество
ударов стенных часов, Шервиль бросил взгляд на циферблат своих часов.
Ручные и стенные часы не спорили друг с другом.
— Одиннадцать часов! — воскликнул мой друг, почти не скрывая испуга. — Что скажет моя хозяйка?.. Она скажет, что я пустился в разгул.
Подхватив свою шляпу, он пожал мне и Ноэлю Парфе руку и удалился.
С того вечера как Шервиль взял на себя обязательство предоставить мне книгу об Алене Монпле, я почти всякий раз осведомлялся при встрече с ним:
— Как там мой роман?
В ответ на этот вопрос Шервиль всякий раз невозмутимо говорил:
— Я работаю.
К сожалению, в одно прекрасное утро, когда на мои книги — «Мемуары», «Исаак Лакедем», «Юность Людовика XIV», «Юность Людовика XV» и Бог весть еще какие — наложили арест, мне пришлось покинуть Брюссель и уехать в Париж, чтобы удостовериться, не задержат ли меня самого.
Мои книги и пьесы по-прежнему пребывали в плену, а меня оставили на свободе.
Вследствие этого я вернулся к своему ремеслу романиста и драматурга; признаться, это трудное ремесло, гораздо труднее всех известных мне профессий! В этом деле необходимо, чтобы фантазия, эта дочь Творца, всегда была к вашим услугам, а она, напротив, имеет склонность служить себе самой.
И вот как-то утром я проснулся с совершенно пустой головой.
Фантазия… — Глупец! Я так крепко спал прошлой ночью!.. — фантазия воспользовалась моим и сном и исчезла.
Впрочем, фантазия имела на это право. Накануне она исполнила свой долг, поставив слово «Конец» под первой частью тридцатитомного романа.
И что же тогда я сотворил, вор по сути своей?
Я припомнил историю под названием «Заяц моего деда», которую однажды вечером, вернувшись из Сент-Юбера, поведал мне Шервиль, и в свою очередь пересказал ее.
По правде сказать, так получился еще один том.
Тем не менее одна мысль не давала мне покоя: я ожидал каких-нибудь возражений со стороны Шервиля.
Столько людей, которых я одаривал, предъявляют мне претензии; с тем большим основанием должен был возражать тот, у которого я что-то взял.
Через пять-шесть дней, после того как была опубликована последняя глава этой повести, я получил письмо с бельгийским штемпелем.
Узнав почерк Шервиля, я вздрогнул.
«Что ж, — подумал я, — за преступлением следует наказание».
Я опустил голову, поскольку на этот раз в самом деле был виноват, и распечатал письмо.
Признаться, я чрезвычайно обрадовался, прочитав следующие строки:
«Мой дорогой Дюма!
Я получил от Ноэля Парфе небольшой томик, и мне стало ужасно стыдно, когда, закрыв книгу, я припомнил Ваше благожелательное предисловие к ней. Сравнивая сочинение, к которому Вы изволили меня приобщить, с нескладной историей, рассказанной мной в Вашем присутствии однажды вечером, поверьте, я не узнал самого себя и воскликнул, как незадачливый путешественник, которого, пока он спал, вымазали черной краской:
«Ба! Они думали, что будят меня, а разбудили негра!»
Но в моем случае все наоборот: из негра я превратился в белого человека.
Короче говоря, прочитав «Заяц моего деда», я почувствовал себя Вашим должником и отважусь обратиться к Вам с просьбой.
Я начну с долга, ибо, в отличие от обычных долгов, эта ноша для меня приятна и легка.
Прежде всего, спасибо, мой дорогой Дюма; я благодарю Вас очень горячо, очень искренне и, позвольте добавить, с бесконечной любовью!
Вам доводилось встречать на своем пути множество неблагодарных людей. Сколь самонадеянным ни казался бы тоту кто уверен в своих будущих чувствах, я полагаю, что моя признательность в состоянии возрасти, и она сделает это. На мой взгляд, она слишком глубока и горяча, чтобы позволить себе охладиться с годами или пойти на корм червям, и я смею обещать Вам, что благодаря лучу солнца, каким Вы обогрели весьма скудную почву, она, даже если и не принесет прекрасных и обильных плодов, то, по крайней мере, не умножит количество шипов и колючек, которые, как правило, при подобных обстоятельствах вонзаются в Ваши пальцы, обагряя их кровью.
А теперь вот в чем состоит моя просьба: мой дорогой Дюма, продолжайте оказывать Вашему верному другу-изгнаннику ту же великодушную поддержку, которую он ни в коей мере не заслужил, но которой ныне по многим причинам желает быть достойным.
В заключение примите, дорогой Дюма, мои наилучшие пожелания.
Г. де Шервиль.
P.S. Вы, конечно, помните Шалаш, в котором Вы провели грозовую ночь в 1842 году; Вы не можете не помнить Алена Монпле, оказавшего Вам гостеприимство, а также его парнишку Жана Мари и собаку по кличке Флажок; наконец, Вы прекрасно помните, что я обещал Вам написать историю об этих простых людях, книгу об этом скромном уголке земли? Так вот… берегитесь лавины!..»
И действительно, три-четыре дня спустя на меня обрушилась лавина.
Это была рукопись, написанная тем же изящным аристократическим почерком, который я узнал на конверте адресованного мне письма.
Она была озаглавлена «Охотник на водоплавающую дичь»; не хватало только точки над буквой «i», и я ее поставил.
Вот и все, к чему я приложил руку в этом сочинении. Любезные читатели, вы должны признать, что невозможно быть более скромным, чем ваш покорный слуга.