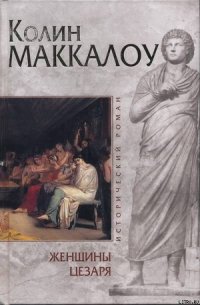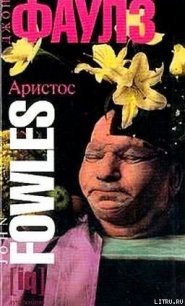Ветеран Цезаря - Остроменцкая Надежда Феликсовна (полная версия книги .txt) 📗
В тот же день мы отплыли на запад. На корабле мне снилась девушка из Патр. Она танцевала в лавровой роще, не для кого-нибудь, а просто так, от радости. Заметив меня, она отломала две веточки лавра, связала их лентой и увенчала ими моё чело. Этот сон сулил успех всему, что я задумал. Я проснулся в великой радости и немедленно поделился ею с Валерием. Он только снисходительно усмехнулся. Он не разделял моего восторга! Я приписал это старости: ему было уже больше пятидесяти лет.
Но всё же молчание Валерия создало у меня ощущение отчуждённости, и я не доверил ему свою мечту: после объезда рудников вернуться в Патры и заручиться согласием родителей девушки на её брак со мною.
Да, я мечтал о девушке, имени которой не знал. Меня тревожила её судьба. Я упрекал богов, пославших ей легкомысленного отца. Я не сомневался, что он способен из-за какой-нибудь обманчивой надежды снова рисковать собственным благополучием и свободой дочери. Я вспоминал её скорбный взгляд, и во мне крепло решение взять на себя защиту её жизни и чести.
Едва наступали сумерки, я укрывался плащом и, делая вид, будто сплю, отдавался грёзам. Я представлял себе ликование семьи, узнавшей об облегчении долга; наше обручение с девушкой и счастье в её глазах; приезд с молодой женой в Брундизий и радость моей матери… Душа моя переполнялась восторгом.
Я уже писал, что встреча в Патрах перевернула мне душу. Теперь я хотел знать всё, мимо чего раньше проходил не замечая. А прежде всего я хотел слышать от Валерия о нём самом. Вот уже почти два года я собирался и не успевал расспросить его, почему, живя у Волумния, он так страшно изменился: стал плохо видеть, похудел, постарел…
На мой вопрос он ответил загадкой:
— Спроси пчелу-работницу, почему она умирает, прожив только одно лето, а царица пчёл может жить пять лет.
— Ты хочешь сказать, что Волумний заставлял тебя слишком много работать?
— Да.
— Но у нас ведь тоже…
— У твоего отца мы прекращали работу с заходом солнца. И потом, твой отец ценил во мне не только хорошего переписчика, но и знатока литературы. Он не заставлял меня переписывать книги, но только обучать этому искусству других. У Волумния же я должен был и учить молодых и переписывать наравне с ними, а ночью при коптящих светильниках исправлять их ошибки. А когда я стал терять зрение, он перевёл меня на пчельник. Ты думаешь — из жалости? Нет: он боялся, как бы не пришлось кормить слепого, ни на что не годного раба.
— А я считал его добрым хозяином…
— Он добр к рыбам, а не к рабам. Рыб своих он кормит отборными яствами, а нам жалел дать даже то, что Катон [43] рекомендовал для невольников. Волумний считал, что при сидячей работе мы мало тратим сил и нам достаточно одной лепёшки утром, одной — на ужин, а среди дня — горсти маслин или бобов. А ты не представляешь себе, как трудно высидеть пятнадцать-шестнадцать часов подряд, не разгибая спины да ещё голодному!.. Я радовался, когда можно было встать с места, чтобы проверить чью-нибудь работу или взять новую рукопись… Да что об этом говорить!.. Рабу нигде не сладко.
— Он всегда высказывал гуманные взгляды…
— Только высказывал, — перебил меня Валерий. — У Волумния гуманность вроде парадной тоги: для торжественных случаев. Я полюбил тебя ещё больше за то, что ты избавил меня от этого жестокого лицемера.
— А почему же ты молчал всё это время?
— Мне было жаль замутить твою радость. Ты был так доволен своим успехом среди его гостей. Но теперь, раз ты уж увидел изнанку этого «гуманного» общества, раскрой глаза вовсю и смотри пристальней. Ты увидишь, как войны развратили тех, кто на них разбогател, а богачи развратили народ. Всё в республике стало продаваться, начиная от титула друга римского народа (сенат жалует его за деньги любому варвару) и кончая голосами избирателей, которыми народ торгует на форуме.
Я и без совета Валерия хотел узнать изнанку жизни.
— Но будь осторожен, — предупредил меня Валерий, — проникать в преисподнюю опасно. Например, если ты хочешь узнать, правы ли писатели, утверждающие, что никакие ужасы тартара не могут сравниться с ужасами каменоломен и рудников, надо делать это осмотрительно: сначала ознакомиться с подземной работой рабов, а потом уж с работой агента в конторе.
— Почему?
— Не понимаешь? Предположи, что мы обнаружили мошенничество в записях агента. Что ему стоило расправиться с нами в подземной галерее, а потом свалить всё на несчастный случай?
На первом испанском руднике, с которого мы начали проверку, работали осуждённые. Когда я сказал управляющему, что хочу спуститься под землю, он отказался нас вести, пугая тем, что там на нас могут наброситься озверевшие люди. Он, мол, не ручается за нашу безопасность.
— Веди! — оборвал я его. — Мне приказано доложить, в каких условиях работают люди.
— Там только рабы, — пожал он плечами. — Зрелище не из приятных.
Узкой тропинкой прошли мы на гору, спустились по ступенькам крутого откоса и оказались в провале или яме — не знаю, как назвать. Здесь не было видно даже отблесков заходящего солнца. Вокруг стоял сумрак. Мне показалось, что мы сошли в царство мёртвых. Из-за чёрной скалы слабо брезжил красноватый свет. Мы свернули туда, обходя большую кучу отколотых глыб.
— Их поднимают наверх и там дробят, — объяснил управляющий. — А вот, — он указал на чёрные отверстия в скалах, — входы в рудничные галереи. — Взяв один из воткнутых в расщелину факелов, агент поднял его над головой. — Всё ещё хочешь войти?
Уж не думает ли он, что я боюсь? Вскинув голову, как норовистый конёк, я направился к ближайшему отверстию, у которого сидел надсмотрщик с остроконечной палкой.
— Для бича внизу нет размаха, поэтому приходится пользоваться палкой, — пояснил наш провожатый.
При свете факелов, которые несли впереди и позади нас, стены галереи казались изъеденными жуком-точильщиком. В каждом углублении копошились обтянутые кожей скелеты: один, лёжа на спине, бил над собой скалу; другой, занося молот вбок, откалывал куски породы; женщины, стоя на коленях, долбили стену острыми молотками. Движения их были монотонны. Они казались призраками, обречёнными на веки веков производить один и тот же взмах. При нашем появлении никто не повернул головы, словно для них ничего, кроме молотка и скалы, не существовало.
Ни на ком — ни клочка одежды. Только цепи на ногах, звеневшие, когда работник менял положение. Все выглядели одинаково старыми, даже заморыши-дети, сновавшие туда и сюда, подбирая отколотую породу и складывая её в ручные тележки. Встречаясь с нами, дети боязливо жались к стенам и жмурились: видимо, свет факелов причинял им боль.
— И это живые люди! — прошептал Валерий, угадывая мой ужас.
Галерея полого спускалась вниз. Время от времени нам попадались надсмотрщики. Чем ниже мы спускались, тем их было больше. Мало-помалу я стал замечать, что внешний вид рудокопов меняется: чем дальше от входа, тем чаще встречаются мускулистые крепкие люди, видимо попавшие сюда недавно. Они окидывали нас быстрым злым взглядом из-под локтя. Провожатый наш, казалось, начинал тревожиться.
— Может быть, достаточно? — несколько раз повторял он. — Дальше то же самое.
Но я каждый раз отрицательно мотал головой и требовал:
— Дальше!
Вдруг на наши голоса один из призраков обернулся и, пронзительно вскрикнув: «Пират!» — ринулся к нам.
Острая палка надсмотрщика вонзилась в его живот прежде, чем я успел отпрянуть. Раб упал, обливаясь кровью, и захрипел:
— Пираты…
Дети, оставив тележки, шарахнулись в глубь галереи. Взрослые, словно машины, продолжали свой монотонный труд.
Управляющий злорадно сощурился… Но тут же, как бы одёрнув себя, почтительно спросил:
— Не согласишься ли ты уйти теперь?.. Я говорил, что здесь нечего смотреть: одни — издыхающие, другие — исступлённые. Но мы их быстро укрощаем соответствующей пищей и работой. Основное их питание — вода, — осклабился он, — а спать разрешается только тогда, когда, упав, они не могут подняться даже под палкой.
43
Като?н — римский политический деятель и писатель II века до н. э. В своём труде «О сельском хозяйстве» Катон касается и положения рабов.