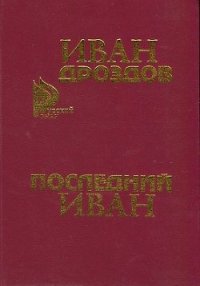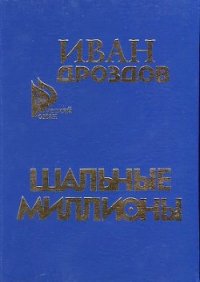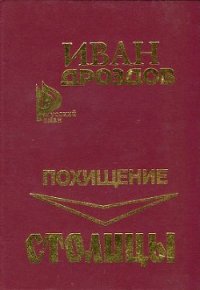Филимон и Антихрист - Дроздов Иван Владимирович (читать книги без txt) 📗
— Котин так Котин, — мялся у стола Зяблик, но даже усталому, дремавшему над столом академику было видно, что Зяблик имеет другую кандидатуру — имеет, но высказать не решается.
— Что вам ещё? — грубовато буркнул Буранов.
— Котин может не пройти на выборах, Александр Иванович. Долго сидел в месткоме, нажил врагов.
Буранов вскинул голову. Взгляд его просветлел, в нём отразилось недоумение. И немой вопрос: «Так ли всё есть, как вы мне говорите? Нет ли тут другой какой-нибудь подоплёки?»
— Котин. Будем предлагать Котина, — решил настоять на своём академик.
Зяблик не возражал, но и не соглашался. Стоял у плеча, молчал.
— Ну что еще! Сказал же! — начинал выходить из себя академик.
— Я что ж, не возражаю. Да только не пройдёт Котин. Райком не пустит. Брат у него невозвращенец. Да и сам — не Котин, а Коган.
— Коган? М-да-а… А брат — он что же?
— Поехал с оркестром в зарубежные гастроли и там остался. Попросил убежища.
— Гм, да, фокус. Ну, а Котин, то бишь, Коган при чём? Сын за отца не отвечает, а тут — брат.
— И я так полагаю. Но — Коган. Райком не любит.
— Пусть они попробуют, а я решил. Коган будет. Всё!
Буранов далеко метил этим своим ходом. Знал: и в ЦК, и в министерстве есть много важных людей, которым его выбор понравится. И при любых оборотах его судьбы в них он найдёт своих союзников. Долго живёт на свете Буранов, и много уж десятилетий занимает он пост директора, знает, когда и на какие педали нажимать. Вот и сейчас: нажимал на эту испытанную, проверенную временем педаль.
И академик склонился над столом, давая понять, что разговор окочен. Зяблик отступил. В расстроенных чувствах вышел из кабинета.
Коган — хорошо, но в планах Зяблика ему отводилась другая роль, тоже важная, но — другая. В секретари двинуть хотел Шушуню. Он — русский, а служить Зяблику будет не хуже Когана. Когана же хотел поставить у плеча секретаря партбюро. При этом был бы и политес соблюдён, и люди расставлены как надо. Академик же грубо вмешался в его планы — будто волк забежал на псарню. Давно не видел таким академика. В жёсткости шефа, небрежном обращении узрел худой знак. Зяблик терялся в столкновении с твёрдым характером, он был силён лишь в отношении со слабыми, особенно, если перед ним был человек зависимый, ждущий от него поддержки или милости.
На дворе подошёл к черной «Волге». И тронул за плечо шофёра — жест, означающий: «Здравствуй и поехали». Но шофёр, не поворачивая головы, холодно проговорил:
— Вы ошиблись, Артур Михайлович, ваша машина сзади, это директорский автомобиль.
— Разве? Ну ничего, пусть они пользуются моим автомобилем — какая разница!
— Как бы не заругалась Дарья Петровна.
— Ах, пустяки! Поезжайте!
Это был дерзкий шаг, но Зяблик шёл на него сознательно. Академик показал ему место, но пусть знает: он будет исподволь приучать всех к мысли о своём главенстве, о первой роли в институтских и во всех других делах. Подъезжая к институту, показал водителю место стоянки — вдалеке от главного входа, на площадке, которую видно из многих окон. И, выйдя из машины, постоял несколько минут, окинул хозяйским взглядом прилегающую к институту территорию, подошёл к рабочим, починявшим кромку тротуара, снова подошёл к шофёру, дал ему инструкции. Знал: из окон наблюдают, мотают на ус. Затем, не спеша, продолжая оглядывать всё вокруг, прошёл через главный вход. И тут задержался у швейцара, спросил, не было ли происшествий ночью.
По телефону дежурного позвонил своему референту — у Зяблика тоже был референт, числившийся, правда, младшим научным сотрудником, — Спартак Пап.
— Ты уже встал? — спросил с издёвкой. — Немедленно в институт!
Хотел пройти в кабину лифта, но в вестибюле встретился Шушуня, придержал шаг в замешательстве, склонился в приветствии, проговорил негромко:
— Здравствуйте, Артур Михайлович!
Правая рука Шушуни дёрнулась, но тут же водворилась на место; он улыбнулся смиренно и продолжал стоять в той слегка наклонённой позе, которая раньше за ним не замечалась и в которой видна была полная покорность, деликатное стеснительное чувство благодарности за что-то, готовность служить и быть полезным, и всё делать с радостью любящего, преданного человека.
Стремительно двинулся к Шушуне, дружески пожал руку. И пока обменивались пустыми словами приветствий, в уме Зяблика стороной бежали мысли: «Котин — товарищ, он мне помог утвердиться, но сейчас его в сторонку, да, да — пусть сидит в тени; репутация шаткая, подмоченная — брат уехал в Америку, купил там три автофургона, открыл контору грузовых перевозок. Шушуня — иное дело, фронтовик, чист, аки стекло: да, да — Шушуня. Смирный, мешать не станет».
Вспомнился эпизод на даче академика. Шушуня осудил дурака Галкина и будто бы даже прикрикнул на него. И, вспомнив это, Зяблик сильнее затряс руку будущего секретаря, другой рукой коснулся плеча:
— Зайдём ко мне. На минутку.
В приёмной Зяблик почти не взглянул на двух секретарш — свою и директорскую, раскрыл дверь бурановского кабинета. И, продолжая разговаривать с Шуигуней, с минуту держал её открытой; кидал взгляды на входящих в приёмную учёных; демонстрировал всем: видите, сегодня я по случайности или по каким-то иным причинам открываю кабинет директора, а завтра войду сюда хозяином. Привыкайте, друзья, привыкайте.
Зяблик не был артистом, не знал таких наук, как педагогика, психология; стихийно применял и педагогические и психологические приёмы, применял тонко, ненавязчиво, однако хорошо понимал, что именно эти приёмы и являются главным оружием его самоутверждения, его стремительного движения по служебной лестнице.
В кабинет директора не вошёл; постоял в дверях несколько минут, резко повернулся, прошёл в свой кабинет. За ним проследовал Шушуня; шёл бодро, тугим пружинным шагом. В его позе ещё сохранялась покорность, он ещё не полностью распрямился, но в линиях спины, головы и шеи уже проглядывала решимость, пробуждённая ласковым отношением начальника, взбодрённая пока ещё смутной, но уже крепко запавшей в душу надеждой.
Сидели за строгим полированным столом, в небольшом, обшитом фанерованной плиткой кабинете помощника директора — ещё старой, сиротливо выглядевшей теперь комнате, в которой изначала помещались референты. Шушуня оглядывал кабинет недоумённым взглядом и думал: где же теперь будет сидеть Зяблик? По его новому сану он должен располагаться шире и богаче, чем заместитель по хозяйственным делам Дажин, чем заместитель по науке и другие высокие чины института. Где же такой кабинет будет? И когда в нём новый хозяин воцарится?
Зяблик точно читал тайные мысли Шушуни, не мешал разглядывать свою бедную обитель, улыбался лукаво и будто бы даже покачивал головой: простота ты простота! Скоро вы все увидите, где место Зяблика, какую он власть возьмёт над всеми вами.
Вспомнил хозяин кабинета обещание, данное самому себе в момент, когда зачитали приказ о его новом назначении: сходки, митинговщину свести на нет, тары-бары ни с кем не растабаривать, сотрудников приучать к деловому стилю. Откинулся на спинку кресла, сказал:
— Отчётно-выборное скоро. Что вы думаете, кого секретарём избрать?
Шушуня чуть не бухнул: «Собранию решать», — на кончике языка задержал наивную мысль. Зяблик не из тех, с кем можно разводить демагогию. В свою очередь спросил:
— Советуетесь со мной?
— Да, хочу знать ваше мнение. Вы ведь, кажется, член партийного бюро?
— И вы тоже.
Засмеялись. Посмотрели друг другу в глаза. Впервые за три года пребывания в институте Шушуня разглядывал глаза Зяблика, птичьи, круглые с расширяющимися на свету зрачками. В них вечная ночь копошится.
— Котин Лев Дмитриевич. Лучшей кандидатуры не вижу.
Шушуня бил в десятку: знал о братских узах Зяблика и Котина, не разлей вода они были дружками. И так же краем уха ведал: подмочил ему корешок репутацию, видно, Зяблик хочет подержать своячка в тени.
— Котин — вчерашний день. Год или два назад он бы прошёл, теперь народ к трибуне прёт, каждый на свой лад права качает. Котина зарубят, братец ему хвост подмочил.