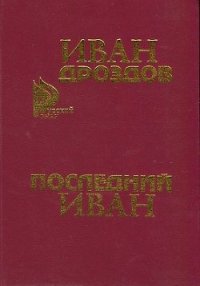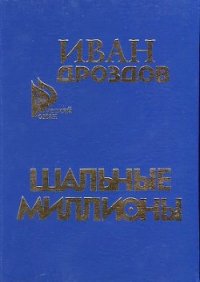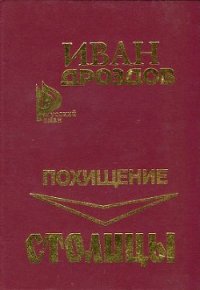Филимон и Антихрист - Дроздов Иван Владимирович (читать книги без txt) 📗
Страх распалял фантазию. Зяблик пил, ел, отвечал на вопросы сидящих за столом людей и улыбался, говорил каламбуры — на всё у него хватало внимания, и только зоркий глаз Дарьи заметил его рассеянность, тревогу в бегающих неуловимых глазах, нетвёрдость в жестах, неуверенность в интонациях. И это — Зяблик, такой близкий и знакомый в мельчайших подробностях Зяблик. Самоуверенный и нахальный. Сейчас он походил на солдатика, у которого отломили ногу. Шалун-мальчишка водворил солдатика в строй, но тот валился на сторону, падал.
Два главных действующих лица застолья умолкли, вместе с ними умолк весь стол. Наточка, — её голосок беспрерывно звенел в начале обеда, — выпросила у деда заветные три десятки; дед незаметно сунул ей деньги в сумочку, и она тотчас же потеряла интерес к собеседникам. У кинотеатра «Ударник» её ждали друзья, и она, обжигаясь, допивала чай, собиралась встать и раскланяться. Нату, правда, занимали подарки дяди Зяблика: «Привезёт ли?». Несколько раз взглянула на него, лукаво перемигнувшись, поняла: привезёт, никуда не денется!
Академик тоже остался без дела и терял интерес к обеду. До того он шушукался с правнучкой; она ласкалась к нему, целовала в щёку, щекотала горячим шёпотом, он оживал рядом с ней, но вот дед снабдил любимицу деньгами, и их дела на том завершились. Меркантилизм девочки обижал Буранова, печально туманил голову, но лёгкое чувство обиды хоть и было неприятно, однако старик знал его, давно к нему привык и принимал как должное.
Рядом с хозяином сидел Борис Эдуардович Баранов, подполковник в отставке, законный муж Дарьи Петровны, безнадёжный запойный пьяница. Борис Эдуардович всегда садился рядом с академиком, заводил учёные разговоры, — для того покупал книги и брошюры о свойствах металлов, почитывал на досуге, — в конце концов склонялся к собеседнику, просил денег. Александр Иванович смущённо и торопливо совал пятёрку. Академик был еще и единственным человеком в этом большом и шумном доме, с кем можно было за компанию выпить по рюмочке. Борис Эдуардович и сейчас наполнил себе и соседу, и уже поднял свою, но Дарья Петровна ударила его по руке, расплескала коньяк — грубость, которую раньше не позволяла. Стрельнула на мужа взглядом, строго поджала губки. В голове у неё шевельнулось: «Ты молод, и в том твоё преимущество». Мысль не совсем ясная, в подробностях не оформленная, но пронеслась резво, взбодрила новые планы и надежды.
Борис Эдуардович тайных мыслей жены не знал, злобно оглядел застолье, задержал взгляд на Зяблике. Понял: вина не отломится, денег не раздобыть. Прежде он в крайних случаях к врагу своему, Зяблику, обращался — тот щедро, с нескрываемой брезгливостью бросал четвертную — не меньше! — и как ни обидно было принимать подачки от человека, который явно ухаживал за женой, но томившая каждую клетку жажда выпить брала своё, и он принимал деньги. Знала об этих подачках Дарья, грозила Зяблику: смотри, с огнём играешь.
«Однако, что произошло с Зябликом? Какая его муха укусила?»
Чем старше становился академик, чем глубже он уходил в себя, тем обострённее становился интерес к институтским делам его секретарши. Рвался пучок видимых и невидимых нитей, соединявших её с институтом. Горечью обид закипала властолюбивая женская душа. И крепла в ней тайная суровая дума: смотреть за Зябликом в оба. Ведь, если он станет директором, потеряет она академика, вылетит и с дачи, и отовсюду. И зарплату секретарши потеряет.
Ночь прошла беспокойно, Зяблик не сомкнул глаз — такого давно не было. Утром Дарья приоткрыла дверь в спальню, вкрадчиво, тихонько спросила: «Не спишь?» Чертыхнулся под одеялом, буркнул: «А, чёрт! Лезет в башку всякая бесовщина!» Села в кресло — уютная, нежно-душистая.
Смотрел на неё, думал: «Где духи берёт такие? Ах, да — французские. Сам же ты в прошлом году из Питера привёз». Ленинград он называл Питером.
Дарья чутким женским сердцем на лету поймала тревоги Зяблика. И решила: институтские дела заботят. Знала характер противника, соответственно избирала тактику.
— Ты напрасно согласился занять пост заместителя директора.
— Почему? — привстал на подушке Зяблик.
— Съедят они тебя!
— Как съедят? Кто?
— Учёные.
— Ах ты, Боже мой, испугала! Я-то думал ты об этом идиоте Галкине. А ты — учёные. Какие? Кто из них на волка похож? Ягнята!
— Филимон — волк. Не глади, что тихий, да робкий. Такие-то особую силу имеют: руками не размахивают, не шумят, тиснут — косточки только хрустнут.
— Малахольный он, твой Филимон, дурак! Смеются над ним.
— Сегодня смеются, а завтра рты разинут. Так всегда было, во все века, — над большими смеются вначале, гонят их, травят, а всё потому, что большие они, на всех других непохожие.
— Блажишь ты, Дарья.
— А ты внимай — сердце женское не ошибается. Слышала я, как Александр Иванович говорил: «Филимонов великое дело держит в руках. Отыщет ключ к расчётам — прославит институт и сам до небес поднимется, волю тогда всем диктовать будет». А теперь компьютер у него. С ним-то он скоро пропавший импульс обнаружит.
Филимонова выбрала для устрашения Зяблика нарочно, — фигура Зяблику неподвластная, группа Импульса под контролем министерства состоит, голыми руками не возьмёшь. А к тому ж и отец Оли затоптать Филимона не даст. Он недавно Буранову звонил — слышала их разговор.
— Каркаешь, как ворона! Нет, чтобы успокоить, — она масла в огонь подливает.
— Опасность тебе указываю — тоже не пустяк. Нельзя с волками играть вслепую. Филимон директором станет, а за ним Три Сергея пойдут. Им всё равно, какому Богу молиться, они там, где сила. А он, Филимон, такую силу возьмёт! Вспомнишь меня.
— Ну вот… Нагнала страху!
Отвернулся к стене Зяблик, съёжился. Дарья ликовала. Она нанесла первый удар, и он пришёлся по цели. Филимон, Галкин, Три Сергея… Люди молодые, независимые. Бисер ни перед кем не мечут, цену себе знают. Многих таких гордецов раскидал за десять лет пребывания в институте Зяблик — по одному щёлкал, как орешки, но эти… Филимон костью в горле застрял. Ну как завтра найдёт проклятую зависимость!
Думала о Галкине и Дарья. На днях к ним на этаж заходила, видеть хотела, — приглянулся он ей на даче, — но встретила Филимонова. На краешке стола в коридоре пристроился, по клавишам компьютера стучал. Встал навстречу, оробел. Странный он — стеснительный. И неженатый. Из Трёх Сергеев ей Сергеев-Булаховский нравится. Высокий, молодой, копна чёрных волос на затылок откинута. Но слишком горд. И на всех свысока смотрит, даже на неё, на Дарью.
Пыталась она, — и Зяблик пытался, — в дела его лаборатории вмешиваться, но академик сказал: «Трёх Сергеев оставьте. На космос работают. Ни денег, ни людей для них не жалеют». Зло сказал, по носу обоим щёлкнул. И за всё другое раздражение выместил. И хотел бы строже прикрикнуть, да сил не было. Схватился за сердце, долго сидел в кресле. А когда Дарья валокордин ему накапала, отстранил стаканчик, сказал: «Не помогают капли, нитроглицерин в таблетках принеси». И другой раз жёстких разговоров не заводил. Сверкнёт зло глазами, сникнет. Пусть всё плывёт по течению!
Иногда с Дарьей, в минуты откровений, разговор заводил: уйти бы мне, молодому уступить. Дарья вскидывалась: как же! Да кто это в наше время должность бросает! Хотела бы я посмотреть, как тебя обслуживать будут: продукты к празднику, врачей, медсестёр для ночных дежурств. Да ты, видно, с ума спятил!
Дарья, умевшая быть нежной и предупредительной в обычной жизни, становилась зверем, когда речь заходила о её кровных интересах.
— Книги печатают, в почётные члены избирают, подарки и адреса со всего света валятся! — ты, видно, решил, так всегда будет.
Буранов сникал под градом упрёков и предостережений; он мудрым, многоопытным умом понимал справедливость этих циничных откровений. В такие минуты в горестных размышлениях шёл дальше: представлял, как его, больного, никому не нужного старика, бросит тогда и Дарья, покинет Зяблик, не будет звонков из института, из академии, из министерства, из райкома, не подкатит утром чёрная, со сдвоенными фарами «Волга» — жизнь для него прекратится раньше, чем наступит естественная смерть. От мысли такой Буранов слышал за спиной мертвящий холодок, стучал по столу или по ручкам кресел, звал Дарью. И был с ней ласков, гладил её круглые, бархатно-тёплые руки, нежно-нежно смотрел в глаза; женщина слышала тревогу потухающего сердца, ласково говорила: «Ничего, всё обойдётся».