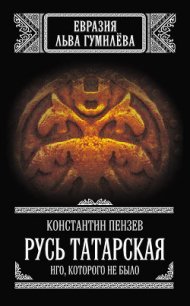Зори над Русью - Рапов Михаил Александрович (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
«В каждом художественном произведении, в том числе — в историческом романе, в исторической повести, — подчеркивал А. Толстой, — мы ценим прежде всего фантазию автора, восстанавливающего по обрывкам документов, дошедших до нас, живую картину эпохи, и осмысливающего эту эпоху…» И если в романе «Зори над Русью» возникли живые красочные характеры, привлекающие естественностью картины народной героики, — это убедительное свидетельство творческого успеха автора, который, сохраняя правду истории, доверился одновременно и полету фантазии.
Небезынтересны два следующих примера. Боярский Великий Новгород враждебно относился к Москве, собиравшей разрозненные русские земли в единое централизованное государство. Новогородское вече отказалось послать свои полки под начало князя Дмитрия. Но могли ли простые люди Северной Вольницы, потомки тех, кто некогда поверг в прах тевтонцев на льду Чудского озера, не принять участия в решающей битве с татарами? Рапов правомерно предположил иное: новогородцы были на поле Куликовом, они пришли сюда, нарушив боярский сговор. В романе это важное сюжетное ответвление закреплено запоминающимся образом посадника Юрия Хромого.
Или еще: сооружение каменного Московского Кремля. С. Бородин, например, поручает строительство мастеру–персианину Алису, а затем, придерживаясь распространенной версии, пишет, что Алис и работавшие с ним были умерщвлены по приказу Дмитрия, который не хотел, «чтобы враг распознал о тайнах Тайницкой башни…»
В «Зорях над Русью» — противоположное и, думается, более правильное толкование. Москвичи сами кладут стены Кремля, ставят его башни: народное зодчество искони славилось на Руси. Тайна же Тайницкой башни — скорее военная тайна, ведомая не только строителям, а и воеводам, и ратникам; для сохранения ее вряд ли стоило так жестоко расправляться с десятком — другим каменотесов. Народ берег эту тайну не менее заботливо, чем князь Дмитрий. «Послушай мужицкую речь, Митрий Иванович, — убежденно выговаривает князю работный человек Пахом. — Ты мужиков подними, посадских тож… Вот так, миром, что хочешь, одолеешь, а Кремль, он всем нужен, никто своему животу не враг…» Не потому ли тщетны попытки новогородского боярина Василия и предателя Прокопия Киева вызнать секрет подземного колодца, скрытого под Тайницкой башней?
В центре «Повести лет, приведших Русь на Куликово поле» — образ Семена Мелика, воплощающий типические черты народного характера: пламенное свободолюбие, беззаветный патриотизм, ратное геройство, острый и проницательный ум. Мелик выказывает свои лучшие качества не внезапно, а закономерно, в процессе становления, в непрестанном общении с жизнью.
Вначале Семену все нипочем: «он молод и весел», ему не знакомы еще в полной мере ни произвол боярский, ни неволя татарская. Но жизнь учит его, безвестного пастушонка, сурово и требовательно. «Жизнь твоя пернатой стреле подобна, — говорит Мелику Юрий Хромый. — Болтался ты по земле, как стрела в колчане, а обидели тебя, тетиву натянули, и летишь ты теперь прямо, никуда не свернешь… настоящего дела мечу своему ищешь».
И верно: обид у Семена немало. Вот татарин–мурза похитил невесту его Настю; вот боярский тиун разорил Семенова отца — крестьянина; вот Суздальский князь похолопил и самого Семена…
Судьба Мелика оказывается выражением народной судьбы, личные переживания дают исток верному пониманию общественных интересов. Глубоко в сердце западает Семену наставление деда Микулы: «Береги топор! Придут супостаты, сменишь топорище на боевое, длинное… Так спокон веков у нас, мужиков русских, деется. Когда надо, и мы биться с ворогом умеем. Так–то! Береги топор».
«Супостаты», «вороги»… Это относится, несомненно, не к одним только чужеземцам–поработителям. Бояре и князья, в народном понимании, не меньшие лиходеи, чем татары. Против тех и других приходится держать наготове боевой топор — надежное мужицкое оружие: к топору привычна рука Семена, натруженная в подневольной работе; с топором не расстается Фома, загнанный жестокой нуждой в «станишники»; за топоры берутся крестьяне, доведенные до отчаяния феодальными раздорами.
Мелик служит верой и правдой Дмитрию не потому, что считает его искренним народолюбцем. Семену дорого другое: князь Московский — непоколебимый противник татарского ига, Москва — средоточие сил народа, готовящегося дать врагу сокрушительный отпор. Выразителен спор Мелика с Ильей — беглым крепостным боярина Вельяминова. Настороженную реплику Ильи: «Ты, Семка, не бреши! Повсюду людей кабалят, а у тя выходит — Москва холопов в слободы сманивает, на волю пущает. Чудно! С чего бы это?» — Семен встречает словами, раскрывающими вынужденную демократичность политики князя Дмитрия: «У кого голова на плечах есть, тому понять не мудрено: Москва людей к себе приманивает, через то сильней становится. Освободи тебя, дурака, небось и ты горой за Москву стоять будешь…»
В другом месте крестьянский ходок из Рязани ищет защиты у Дмитрия, и когда князь непонимающе спрашивает: «Или я больше о смердах пекусь?» — ходок отвечает сперва уклончиво: «Кто тебя знает, княже», а затем говорит твердо, без обиняков: «Знаем, что ты Бегича на Воже разбил, что татар на Русь не пускаешь, заступись и ныне».
Обе эти сцены — ключевые в романе. Мнением народным, выстраданной идеей освобождения от татарского ига — вот чем сильна власть князя Дмитрия. И потому так логично авторское отступление в финале повествования: «Одного ратника из всех назвали Донским, остальные, безвестные, умирали сейчас на холодеющей земле, звали близких, кто в силах, ползли на зов труб. Но в века, в память народную Дмитрий вошел не один, не вдвоем с братом Владимиром Храбрым, а со всеми, кто бился на поле Куликовом, кто крови и жизни не жалел, защищая родную землю».
С большим мастерством нарисованы в «Зорях над Русью» сложные образы митрополита Алексия и Сергия Радонежского. Первое знакомство с ними вызывает раздумье: не в чрезмерно ли светлых тонах выписаны они и, в зависимости от этого, не слишком ли сглажена деятельность церкви, не имевшей ничего общего с героической народной историей?
Нет, функции Алексия и Сергия вполне определенны: оба они действуют в качестве мирских проповедников антитатарских убеждений; их характеры, равносильно характеру Дмитрия, проявляются в прямой связи с общенациональным освободительным движением.
Вместе с тем писатель, по–марксистски освещая историю, не мог, разумеется, ограничиться только положительными образами Алексия и Сергия. Достаточно вспомнить, как приходский поп лукаво поучает Семена Мелика непротивлению злу насилием; как три разных попа, в угоду татарам, согласно оправдывают измену родине боярином–новгородцем; какую неприглядную тяжбу ведут «святые отцы» за обладание митрополичьим саном после смерти Алексия, — и станут ясны разоблачаемые в книге реакционность и корыстность церковников, пренебрегающих сплошь и рядом освободительными идеалами народа.
Наконец, значение Алексия и особенно Сергия Радонежского — в противопоставлении их золотоордынскому «бессмертному» Хизру. Как солнечный луч открывает глазу резкие контуры предмета, так и линия Сергий — Хизр способствует выявлению глубинного исторического конфликта: Русь — Орда.
Напрасны отчаянные усилия Хизра вернуть времена Чингис–хана! напрасны не только потому, что Орда уже изживает себя, а потому, прежде всего, что на пути ее встал русский народ, который можно было, превосходя силой оружия, пленить, но дух сопротивления завоеватели не в состоянии были поколебать в народных массах. Он креп от часа к часу, чтобы разразиться великой бурей.
Орда извечно страшилась Руси. «Бату–хан боялся их! — в смятении восклицает Темир–мурза, единомышленник Хизра — Он одел Русь пеплом, он покорил это злое племя, но дальше на Европу пойти не посмел. Даже избив их и разрушив города их, он боялся оставить за спиной Золотой Орды этот упрямый лесной народ». И хотя на откровение Темира Хизр выкрикивает свирепый завет Чингис–хана: «Счастливее всех на земле тот, кто гонит разбитых врагов, грабит их добро, любуется слезами людей», хотя он грозит народу русскому черными бедами: «Перерезать, растоптать, сжечь», — в его неистовстве — бессилие Орды; волчьему сердцу Хизра недоступно ничто человеческое, оно исполнено лишь тупой ненависти — мертвой, бесплодной.