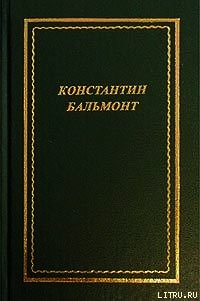Ой ты наш хмурый, скалистый Урал!
Ты ль не далеко на север взбежал?
Там, в Татарве, из степей вырастая,
Тянешься к острым рогам Таганая,
До Благодати горы, до Высокой,
Дальше, все дальше, к пустыне глубокой,
Рослые горы в холмы обращаешь,
Плоскими тундрами к морю сползаешь
И разбегаешься в крае пустом,
Спящем во тьме шестимесячным сном...
Слева Европа, а справа Сибирь...
Как ни прикинешь – великая ширь!
Там реки темные, реки могучие
Катят холодные волны, кипучие,
Льются по тундрам, под гнетом тумана,
В темную глубь старика Океана,
Гложут работою струй расторопных
Мамонтов древних в мехах допотопных;
Тут, к Каме, к Волге, со скатов Урала,
Речек не сотня одна побежала,
Речки прилежные и тороватые
Двигать колеса заводов зубчатые
И уносить до неведомых стран
Тысячи барок, расшив и белян!
Там – дебри мертвые, тишь безотрадная,
В рудах богатства лежат неоглядные, —
Здесь – руды в медь и чугун обращаются,
Камни шлифуются и ограняются!
Там – летом быстрым по груди могучей
Даль обрастает травою пахучей,
Почки выходят, цветы зацветают,
Вышли без нужды – не впрок увядают,
Некому срезать их, в копна сложить,
Сыплется семя, чтоб без толку сгнить;
Тут, где великая степь развернулась,
Гладь черноземная вдаль потянулась,
Копна, скирды и стога поднимаются,
Точно как умное войско, равняются,
И разлеглись на пространствах больших
Села вдоль улиц широких своих!
Может, в Европе, а может, в Сибири,
Вдоль по безмолвной, немеренной шири,
Берегом озера, желтым, сыпучим,
Слева обставлена бором дремучим,
Вдоль по пологому скату отрога
В гору бежит ни тропа, ни дорога...
Как сиротинка забыта, одна,
Бледным вьюном пробегает она.
Тут незаметно, а там повидней,
Вертится, вьется у камней и пней;
Шла она степью, пробьется и бором,
Спорит, безумная, с мощным простором!
Не на бумаге ее сочинили,
Не на казенные деньги взводили,
А родилась она где-то сама,
Делом каким-то, чьего-то ума,
В степи отважилась, в горы пустилась,
В темные пущи, в ущелья пробилась;
Лезет из мертвых, бездонных трясин
К светлым зазубринам горных вершин!
Лепится с краю мохнатых утесов,
Скачет без всяких мостов и откосов;
Так она странно и дерзко бежит,
В воздухе будто бы вьется, висит,
Так иногда высоко заберет,
Что у прохожего сердце замрет, —
И обрывается, гибнет тайком
В божьей пустыне, охваченной сном.
Что-то давно уж, дорога-змея,
Ты не встречала людского жилья,
А о ночлеге, что ты посетила,
Чай, ты, дорога, совсем позабыла.
Что за дорога? Кому тут пройти,
Тут, где людского жилья не найти?
Вьючные кони тебя протоптали,
Ноги людские топтать помогали;
К россыпям, к золоту, летней порой
Ездят охочие люди тобой,
Ездит все ловкий, умелый народ...
Только как ранняя осень придет,
Вырастут ночи, морозы проглянут,
Горы совсем непролазными станут,
Самой дороги тогда не сыскать;
Будто ей любо, как сон, исчезать!
Любо, чтоб люди о ней позабыли,
Чтоб за песком золотым не ходили,
Чтобы не ездил тут ловкий народ,
Тот, что за золото все отдает, —
Чтобы самой ей заснуть лежебоком,
В белом снегу, бесконечном, глубоком,
Чистом, невинном, как грезы детей,
Полном одних только звезд да лучей!
Словно как в шубе, во мху и в коре,
Плотно прижавшись к песчаной горе,
Будто в защите у сильного друга,
Смотрит с пригорка ни дом, ни лачуга!
Лыком да ветками взад и вперед
Ветер по крыше без умолку бьет;
Вдоль по двору, за плетневым забором,
Воет и свищет и ходит дозором,
Лезет в трубу, будто ищет пути —
Как бы к огню отогреться пройти?
Точно как глаз, позабывший закрыться,
Смотрит окно у крылечка, косится;
Смотрит на то, как далеко кругом
Тянутся, стелются холм за холмом,
Как, бахромой обрубив небеса,
Высится дальних лесов полоса;
Как из-за красных, сосновых стволов,
В тихом безлюдье своих берегов,
Близкое озеро, мрачно чернея,
Вяло разводит волной, костенея,
Как разгулялись по озеру льдины,
Ходят гуськом, как живые морщины!
Ветер... туман... Из него, как из пыли,
Звезды на небо светить проступили,
А по окраинам спящей земли
Белые тучи слоями легли;
Так они низко на землю спустились,
Так успокоились, угомонились,
Так, что подумаешь: станет светать,
Ветер не в силах их будет согнать!
Сгонит однако!.. Над низкой трубой
Вьется с лачуги дымок голубой:
Ветер его, подхвативши, несет
И на кусочки на воздухе рвет, —
И улетают, и тают они,
Мал мала меньше, как зимние дни...
Русь! Ты великий, могучий поток!
Вьются в тебе, как в стремнине песок,
Жизней людских сочетанья различные,
Только тебе лишь единой привычные,
Только в тебе лишь одной вероятные,
Людям, чужим тебе, – малопонятные!
Вот и лачуга, что тут приютилась,
В степь, будто искра во тьму, схоронилась, —
Это особая в мире статья,
Новый, невиданный вид бытия!
Житель ее – невысокий мордвин,
Верст сотни на две живущий один.
Этот мордвин, этот домик, дорога
Значатся в описях разве у бога,
А для людей – их как будто бы нет,
Даром что много им от роду лет.
Мир их не знает и ведать не ведает,,
Помнить не будет, когда и проведает;
Правда без плоти в них, быль без былья,
Опыт, набросок, порыв бытия,
Что-то, как воля судьбы, неминучее,
Что-то не складно, но цепко живучее...
Стар ты, мордвин! Ты б лета свои знал,
Если б, как должно, их с детства считал,
Если б другие считать помогали, —
Кто ты, откуда, чем прежде был, знали;
Если б те годы, что прочь улетали,
Хоть бы на малость различны бывали!
Знал бы ты также: крещен ли ты был,
Как стал Андреем, где в церковь ходил, —
Если бы церкви да были поближе,
Поп поусердней, а бог сам – пониже...
Впрочем, порой ты и песни поешь.
Вот и теперь. Отточивши свой нож,
Лыжу ты режешь, испод ее гладишь.
То-то помчишься, коль ловки наладишь!
Ростом ты мелок и узок в плечах;
Кожа лоснится на желтых щеках;
Скулы широкие, толсты и сильны,
Ус жидковат, зато брови обильны;
Глаз твоих щурых совсем не обресть,
А на рубахе заплат и не счесть!
Белой была она, да посерела;
Больше всего в ней кайма уцелела,
Держится плотно, сроднившись с холстом,
Красною ниткой и синим шнурком.
Славный рисунок каймы у рубахи!..
Пояс, по поясу белые бляхи;
Ног из-за стружек совсем не видать.
Поздно же должен, старик, ты стругать!
Видно, короткого дня тебе мало!
Солнце за степью давно уж упало;
Светлые звезды по небу поплыли,
Жизнью безмолвною степь оживили.
Тихою песней твоей, старина,
Горенка вся с преизбытком полна!
Правда, что мало в той песенке толку,
Капает, будто родник, втихомолку,
Все по одной да по той же звучит,
Дела не скажет, молчать не молчит...
Вот уж десятую зиму, Андрей,
Сам ты хоронишься в недра степей,
С Лайкой-собакой, сам-друг проживая:
Лайка на волка похожа, седая...
Где ты и как ты до этого жил,
Скажет – кто ветер степной уследил!
Месяцев восемь, с излишком, пройдут,
Прежде чем люди опять подойдут.
Нанят ты с тем, чтобы быть тут и жить,
Ломы, кирки, решета сторожить,
Книги какие да счеты беречь,
В горенке темной протапливать печь,
Снегу лачуги сдавить не давать,
В стойла пустые волков не пускать.
Сам ты не знаешь, кем нанят ты был,
С кем договор на словах заключил?
Также и те, кто тебя нанимали,
С кем они дело имеют – не знали.
Даже и домик приземистый твой,
Бог его ведает, чей он такой?
Кем он поставлен, он тоже не знает:
Разных хозяев в себя принимает...
Новая это зима подошла.
Будешь ты ждать, чтоб и эта прошла.
Ждать, когда снова народ подойдет,
Пьяный, тревожный, беспутный народ!
Много их шляется той стороной
В жаркое лето, горячей порой!
В стойлах усталые кони храпят,
Люди, ночуя, вповалку лежат,
Водка и песни текут спозаранка,
Под вечер говор, чет-нечет, орлянка,
Бабы... У многих припрятан тайком
Ценный мешочек с намытым песком:
Прячут и блестку, хранят и пылинку...
Зерна – с горошину, зерна – с крупинку...
Только как первая вьюга пройдет,
В горные щели снегов нанесет,
Вихри по степи, по озеру шквалы
Словно для шутки устроят провалы,
Южная птица умчится в испуге, —
Снова покинут, в забытой лачуге,
Схимником неким живешь ты один
В гробе открытом холмов и долин;
И над безмолвием тихой могилы
Движет зима безобразные силы!
Темная ночь по Сибири шагает,
Песню у печки Андрей напевает,
Мерно под песню уходит работа...
Слышит он: будто стучатся в ворота?
Лайка встревожилась, быстро вскочила,
Зубы осклабила, хвост наструнила.
Цыц! Не топырься! То ветер ревет,
Старою веткой по надолбе бьет;
Ветку бы срезать... И кто ж в эту пору
Пустится в путь по степному простору?
Снег не осел и как раз занесет...
Нет! То не ветер стучит у ворот.
Живо Андрей свой фонарь засветил,
Вышел к воротам, гостей опросил!
Слышит он: баба ему отвечает,
Просит пустить; говорит – умирает...
Отпер ворота. А ночь-то темна,
Даром что звездами вся убрана.
Свет фонаря в темноте замирает,
Черным крестом белый снег застилает.
Смотрит Андрей: на клюку опираясь,
Ветхой шубенкой едва прикрываясь,
Сжавшись с мороза, старуха стоит
И не шевелится, только глядит.
Ветер лохмотьями платья качает,
Стукает ими, как будто играет;
Снег, что наплечники, лег по плечам,
Иней к ресницам пристал и к бровям.
Сжатые губы старухи черны,
Щеки морозом слегка прижжены...
«Эк ты, родная! Иди поскорей!»
Тронул старуху рукою Андрей, —
Только старуха как пень покачнулась,
Молча, всем телом, на свет потянулась
И повалилась вперед головой,
Будто как мертвая, в снег молодой...
Зимнее солнце над степью всходило,
Яркий румянец на степь наводило;
Пышно сверкая, блестя, но не грея,
Золотом влилось в конуру Андрея;
В миски взглянуло, к ружью поднялось,
В низенькой кадке воды напилось,
В щель ее искру на дно заронило,
Все осмотрело и все осветило:
Белые стружки на темном полу,
Рыбу в лохани и лапти в углу.
К книжкам, на темную полку, всползало,
Даже заглавия книг прочитало:
Турнера -»Горное дело России»,
Штельцеля -»Опыты металлургии»,
Томик Некрасова, Милля -»Свобода»
И календарь исходящего года.
Лайке же солнце совсем досадило:
Прямо ей в морду так сильно светило,
Что недовольная Лайка проснулась,
Встала и несколько раз повернулась,
И, перейдя, улеглась под скамью,
Скалясь на грезу собачью свою...
Глаз не сомкнувши, над гостьей своей
Целую ночь провозился Андрей.
К утру старухе лицо пораздуло,
Гладко морщины по нем растянуло,
Яркая краска явилась на нем,
Пышет лицо необычным огнем.
Силы старуху совсем оставляли,
Губы, чуть внятно, молитвы шептали;
Было и так, что она не дышала,
Жизнь, уходя, на губах трепетала...
Что только могут без мудрой науки
Нищенский опыт да жесткие руки, —
Сделал Андрей. Утомился старик
И, подле печки, под утро приник.
Солнце по небу тихонько идет,
Степь бесконечная свет его пьет.
В ночь миновавшую страшный мороз
Дню молодому подарки принес.
Озеро, стывшее с воплем вчера,
Скрыла сплошная, как саван, кора;
Груды летавшего с вечера снега
Стали, прикованы к месту ночлега;
Лес разоделся в тяжелую ризу
И поосел всеми ветками книзу...
Спят старики. Запоздавшего сна
Прочь не отгонит от них тишина;
День не принес стукотни и движенья,
Мирно свершаются их сновиденья.
«Ой! Как далеко до храма святого!..
Страннице время в дороженьку снова...»
Слышит Андрей... Поднялся, посмотрел...
Голос над ним, будто гром, прогудел, —
Так непривычен был голос людской
В этой лачуге и этой порой!
Сразу припомнил он стук у ворот,
Как он упавшую поднял, несет!
Вот она, тут... То она говорила...
Только что сила ей вдруг изменила,
Очи старухи глубоко закрылись,
Руки с шубенки тихонько скатились!
Поднял Андрей их, на грудь положил;
В печке погасшей огонь запалил,
В миску, на Лайку, на солнце взглянул —
И, потянувшись, широко зевнул.
Ежели лес молодой обгорит,
В нем запустенье не долго лежит,
Жизни в нем много! Чтоб выйти из пепла,
Ждать ей не нужно, чтоб сила окрепла;
Прет остриями побегов зеленых
Всюду из сучьев его опаленных;
Тут она почкой взойдет, там цветком,
Ей и от корня начать – нипочем!
Если же лес загоревшийся стар, —
Смертью проходит по лесу пожар,
В горьком дыму, трепеща и стеная,
Смрадом расходится мощь вековая;
В пене соков, в крупных каплях смолы
Ярко горят, разрываясь, стволы,
Будто бы груди, шипя, раскрывают,
Воздуха ищут, а где он – не знают!
Сыплются сучья, летят головни,
Стукаясь в камни и красные пни;
В уголь одежду свою обращая,
Лес исчезает, как греза живая!
И от подпочвы, где в темной земле
Жизнь под корнями роилась во мгле,
Вплоть до вершин, где над сочной листвой
Только крупнейший качал головой, —
Смерть водворяется в пепле, в золе.
Ох! Уж не так ли престать и земле,
В срок, когда к призракам, в должный черед,
Призрак людей от земли упорхнет?
Впрочем, не русской, бурлацкой натуре
Треснуть в пожаре, осунуться в буре.
Много промчалось и дней и ночей,
Встала старуха с палати своей.
Только залег в нее, будто чужой,
Кашель какой-то глубокий, сухой;
Только сама она как-то осела —
Все же недаром в морозе горела!