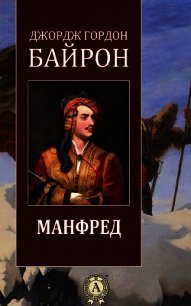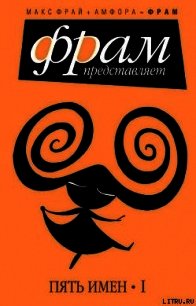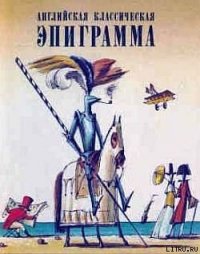Поэзия английского романтизма XIX века - Байрон Джордж Гордон (лучшие бесплатные книги txt) 📗
(Перевод Георгия Иванова)
«Есть на склоне этой горы одно очень романтическое место», — отыскали историки в совершенно случайной книге еще XVII столетия, по-видимому, наиболее раннее употребление слова «романтический». По смыслу это понятие связано и со старым словом «роман», то есть рассказ о вещах невероятных и увлекательных. А со временем «романтизм» сделается символом натуральности и правдивости, — еще один парадокс, каких в развитии романтизма много, и, как бывает с парадоксами, они причудливо отражают самую суть явления.
Строка с «очень романтическим местом» из книги XVII столетия случайна, однако мысль о реальности романтического времени и места, «где-то на склоне горы», о воплощении идеала была для всего движения ведущей — это видно и по выдающимся созданиям романтиков, и по хлестаковским, пошедшим вразмен, признакам романтизма.
Первыми в Англии на поиски романтического отправились, собственно говоря, энтузиасты-коллекционеры и архивариусы, собиратели старины. Итогом их стараний была систематизация и обработка народных сказаний, прежде всего бессмертных баллад о Робине Гуде. Одним из таких собирателей сделается, но уже в разгар романтической эпохи, и Вальтер Скотт с его «Песнями шотландских равнин». А Вильям Блейк, едва ли не самый ранний и еще поэтому оставшийся в изоляции романтик, перенес все эти поиски в сферу духа. Всю жизнь провел он в Лондоне, в трудах над гравировальными досками и — в мечтах. Блейк служил у издателя, однако сам почти не печатался, и он буквально собственными руками изготовил две свои эпохальные книги, «Песни невинности» и «Песни опыта». У Вордсворта романтизм — это сельская тишина и тихие, неторопливые размышления. Правда, был и у Вордсворта свой период «бури и натиска», когда он даже приветствовал взятие Бастилии. Но то была короткая заря в долгой, серо-бессобытийной жизни стихотворца, некогда возглавившего романтические устремления своих соотечественников. О том, что в жизни Вордсворта это все-таки было, ему напомнил поэт уже другого поколения, совсем другой эпохи, напомнил, исхлестав гневными строками «павшего поэтического вождя» (Роберт Браунинг). А в мировых масштабах младшие романтики скорее, чем «отцы» движения, символизировали романтизм, — Байрон, Шелли, они метеорами пронеслись над поэтическим горизонтом века. Характер их дарования отвечал континентальным (как выражаются англичане) представлениям о романтике, и это понятно, если вспомнить, как пылал тогда европейский континент, от штурма Бастилии до восстания на Сенатской площади. Ясно, почему в России, покрытой сетью тайных революционных обществ, и в восставшей Греции скорее, чем в Англии, воспринят был Байрон во всем бунтарском размахе своего творчества. Даже посредственные переводы не могли помешать преклонению перед этой фигурой, гордой, мрачной и вместе с тем ослепительно яркой, которую в нашей традиции иным словом, как «колоссальная», не определяли. К третьему из великих «младших» романтиков, к Джону Китсу, полное признание пришло позднее, за пределами эпохи, охватившей в общей сложности каких-нибудь три десятилетия. Максимальная вспышка романтизма продолжалась и того меньше, но зато отблески, причем совсем холодные и чисто декоративные отблески романтического огня можно было наблюдать еще долго. Длительная, растянувшаяся до начала нашего века инерция романтических настроений вызывала иногда протест и против подлинной романтической традиции, подобно тому как «сень струй», «испанские гранды» и «британские лорды» принимались подчас в романтизме за основное. «Поверхностный наблюдатель, — записывает, например, у себя в дневнике мистер Пиквик, — увидел бы в городах грязь и вонь, однако тот, кто способен усмотреть в этом признаки делового преуспеяния, не заметит таких неудобств». А «романтик», по бытовым, пиквикским представлениям, вовсе ничего не замечал, устремляясь вдаль, под сень струй.
В действительности же романтики первыми, и очень прозорливо, разглядели уродство быстро растущих городов, издержки буржуазного прогресса; вообще все, что досталось как проблема современной эпохе, первыми отметили романтики. Романтики распрощались окончательно (растянулось «прощание» века на полтора) со старым феодальным миром, который был патриархально поэтичен («Кто леди Кристабель милей?») и не менее патриархально дик. Романтики встретили рождение мира нового в ту пору его становления, когда мир этот, рождавшийся постепенно лет триста, принял уже современный облик: всю Англию сделалось возможным пересечь из конца в конец за одни сутки, «грязь и вонь» следовало рассматривать и как признак промышленного прогресса и как «неудобство», осложненное крайней нищетой.
Так ставится вопрос: «Где будет взять?» Действительно, возникает порыв вдаль, прочь, «под сень струй», к природе: путь, указанный еще в середине XVIII века Руссо, основоположником идеи о человеке «естественном», «добром», не «испорченном» благами цивилизации и буржуазного прогресса. Эти идеи воздействовали на всех романтиков, в том числе английских, хотя не все из них сохранили этим идеям верность, после того как абстрактная «доброта» прошла испытание в горниле Великой французской буржуазной революции.
Кроме того, необходимо учесть, что в своих построениях Руссо опирался во многом на английскую книгу, хорошо всем известного Робинзона, в котором увидел он Человека и Природу в гармонии, увидел неистощимую силу, заключенную в человеке, всяком человеке, и действующую благотворно, если только нет у нее на пути социальных препятствий. Восприняв идеи Руссо, англичане тем не менее исповедь самого Робинзона читали иначе, по-своему. У англичан все осложнялось их собственным историческим опытом, как обычно у англичан, вековым революционным опытом, включавшим глубокое переустройство общества, совершившееся еще на рубеже XVII–XVIII столетий. Результатом этого переустройства было торжество Робинзона, исторически-реального, во всяком случае, из книги не Руссо, а Дефо, того самого Робинзона, который, по выражению английского критика, очутившись на необитаемом острове и осмотревшись, стал разводить скот и жарить бифштексы. А вернувшись домой, можно добавить, стал торговать и вести дела.
Робинзон благоустраивался, разводя «грязь и вонь», он требовал прав и привилегий, традиционных привилегий, принадлежавших веками совсем не таким, как этот Робинзон!
А это — Байрон, баронет, шестисотлетний дворянин, член палаты лордов, — наследственное имение его пошло с молотка.
Тот самый Байрон, что в первой же парламентской речи при обсуждении закона о ткацких станках потряс пэров Англии крайностями своего демократизма. В этой же речи, преисполненной искреннего сочувствия к «черни», давало себя вместе с тем знать и оскорбленное чувство аристократического достоинства, оскорбленное и ущемленное натиском буржуазности, которая оценивает человека «несколько ниже стоимости чулочно-вязальной машины». Эти торгаши превратили рабочих в рабов, они и его, лорда Байрона, вытеснили из родового гнезда.