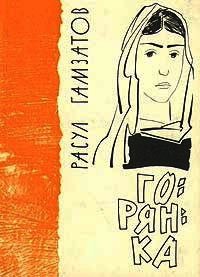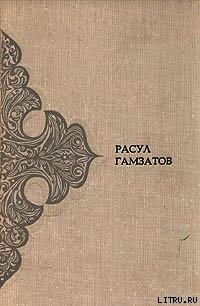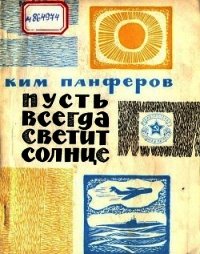Собрание стихотворений и поэм - Гамзатов Расул Гамзатович (электронные книги без регистрации .txt) 📗
А вот тридцать шесть мне пробило уже — Бурлит фестиваль на московских бульварах, И я с непонятной тоскою в душе Любуюсь на двадцатилетние пары.
А нынче мне стукнуло аж сорок два… Пора уже с ярмарки мне возвращаться, Но кругом, как прежде, идет голова, Как будто мне будет пожизненно двадцать.
И улицы Токио, словно магнит, Мятежную душу мою привлекают, И вечер январский так жадно манит, Цветением юности благоухая.
Но вдруг чей-то голос, как рокот реки, Которая с гор устремляется к морю Возник неожиданно, словно стихи, В бессмысленном и бытовом разговоре.
Японец седой мне напомнил отца, Он спутнице юной шептал что-то страстно, И сразу же я угадал в нем певца По звукам, которые были прекрасны.
И прежде такой непонятный язык Вдруг настежь открыл золотые ворота И хлынул, как ливень, причудливый стих, Что стал мне понятен и без перевода.
Как горное эхо, пронеся вдали, Чтобы многократно в душе повториться И чтоб я на краешке самом земли Себя ощутил на мгновение принцем.
Аварский поэт… До меня никогда Нога дагестанца сюда не ступала, И вот я сверкаю, как будто звезда, В созвездии этого юного бала.
Но двадцатилетние люди, увы, Проносятся с хохотом, словно кометы, Не зная, быть может, что я из Москвы Приехал к ним в гости на празднество это.
И гор моих снежных гортанный язык, Наверное, тоже еще им неведом. Он чем-то похож на пронзительный крик Того журавля, что прощается с летом.
Не знают они и обычаи гор, Суровых и нежных, откуда я родом, Где старая мама моя до сих пор Все ждет меня, не запирая ворота.
А я из Японии дальней смотрю На звезды, что в путь отправляются млечный, И кажется, будто бы с ней говорю На нашем родимом аварском наречье.
И песня, как завязь, как робкий росток, В душе созревает, чтоб к свету пробиться… Но падает, как календарный листок, И камнем летит, как подбитая птица.
Неспетая песня… Вдруг оборвалась Она невзначай, как струна на пандуре, И с нею исчезла незримая связь Меж прошлым и будущим, штилем и бурей.
Но в памяти цепкой, как прежде, жива Та неповторимая звонкая нота, Что в сердце моем, зародившись едва, Готова была для большого полета.
Неспетая песня… В Кавказских горах Не празднуют двадцатилетия праздник, И зрелости время у нас на часах Толкуют иначе в селениях разных.
Мгновенья бегут… Проплывают века. Седеют от вьюг и раздумий вершины. Но времени нить не прервется, пока Растут и взрослеют в аулах мужчины.
Вот этот и в десять уже удалец, К пятнадцати он возмужает до срока. А тот, хоть и сед, но трусливый подлец, Не будет ему и от старости прока.
О, зрелость, в горах измеряешься ты Не возрастом и не размером папахи, И праздники наши, как будто просты, Но скрыты в них некие тайные знаки.
Мы празднуем ночь наступленья зимы И сотни костров разжигаем на скалах, Чтоб путник, попавший в объятия тьмы, Не сбился с дороги, шагая устало.
Еще, когда первый весенний цветок Проклюнется вдруг из-за талого снега И с гор побежит оголтелый поток, И дождь серебристый посыплется с неба.
И первую плуг проведет борозду… Мы день этот издревле празднуем тоже, Чтоб голос аульской зурны за версту Округу от зимнего сна растревожил.
И день молотьбы мы отметим потом, Быков круторогих по кругу гоняя, Полову отделим от зерен, чтоб дом Пьянил, как буза, хлебный дух урожая.
Затем мы отпразднуем День чабана И День рыбака не забудем отметить, Ведь, к счастью, ни тем, ни другим не бедна Земля, на которой растут наши дети.
Еще мы отпразднуем праздник цветов И спляшем на празднике первой черешни: Умоемся соком ее и на стол, Наполнив корзины, поставим, конечно.
И праздник, который дороже всего, Отметим мы дружно — Девятое мая, Живых поздравляя с приходом его И павшим последнюю дань отдавая.
Как сладок и горек для нас этот день Великой и неповторимой Победы, В едином порыве сплотивший везде Отцов с сыновьями и с внуками дедов.
Кому восемнадцать, кому сорок пять, Кому и за семьдесят перевалило… Но и в избранный День этот всех нас опять Связует какая-то высшая сила.
И те, кто прошел сквозь горнило войны, В неполных семнадцать взрослея в атаках, Ни в креслах дождались своей седины, А под артобстрелом в пылающих танках.
Мне дважды по двадцать, и вот я уже По третьему кругу идти собираюсь, Покуда мой конь не устал и в душе Еще не померкла беспечная радость.
Вперед, мой крылатый! Тебе не страшны Ни горы, ни волчьи голодные стаи, Хоть жизнью года мои обожжены, Я двадцатилетним себя ощущаю.
Ведь чем безрассуднее я, тем юней! И в этой стране расцветающих вишен На празднике двадцатилетних людей Мой голос пускай не окажется лишним.
Пускай не погаснет до срока звезда, Пусть в сыр молоко превратится в кувшине И соком наполнится мякоть плода, Как желтая корочка на мандарине.
Пускай океан бороздят корабли, Пусть птицы вернутся когда-нибудь с юга. И здесь, далеко от родимой земли, Влюбленные руки протянут друг другу.
Пускай журавли закурлычут весной И зазеленеет опять Фудзияма… Пусть все это сбудется с вами, со мной, С моею, в ауле оставшейся, мамой.
Пусть те, кому двадцать сегодня всего, Увидят начало грядущего века, Который не так уж от них далеко, Хватило бы только им сил для разбега.
О, двадцатилетие — праздник любви, Непоколебимых надежды и веры! Пускай твоя страсть не остынет в крови, Не зная ни в чем ни расчета, ни меры.
В далекой Японии в зимнем саду, Что был, как январское утро, прекрасным, Я видел, как сон наяву, как мечту. Всеобщего двадцатилетия праздник.
II.
Вновь город укрыла полночная тьма, Вернулся в гостиницу я неохотно, И юности праздник, сводящий с ума, Остался, как прошлое, за поворотом.
Сосед мой по номеру хмур был, как ночь, Он мерил шагами квадратные метры… Не ведая, как ему можно помочь, Я кресло подвинул к нему незаметно.
— Присядь же, приятель, в ногах правды нет. Хоть, может быть, и не мое это дело, Но чем же ты так опечален сосед, Что кажется черным тебе свет наш белый?
И острое слово его, как игла, Вошла прямо в сердце мне невыносимо: — Сегодня счет с юною жизнью свела Японская девушка из Хиросимы…
Ей было лишь двадцать… Но, Боже мой, как В тот день, когда юность страны ликовала Решилась она на трагический шаг?.. Неужто ей мать ее не помешала?
— Она сирота, — обречено сказал Товарищ мой и закурил сигарету… Ладонью он влажные вытер глаза И повесть продолжил печальную эту.
— Представь себе: лето — вокруг благодать, Жара августовская невыносима, И нянчится двадцатилетняя мать С младенцем в одном из домов Хиросимы.
Чудесной девчушке и годика нет… Под вишнею мама ее укачала И в дом возвратилась готовить обед… Ах, если бы это начать все сначала!
Но прошлое не возвратить никому, Лишь память одна туда знает дорогу. Лежит городок в предрассветном дыму Так тихо, как будто он молится Богу.
А там наверху, в ледяной вышине, Уже равномерно рокочут моторы И бомба, застывшая, словно во сне, На мирную землю обрушится скоро.
Мгновенье… И палец на кнопку нажал… Младенец лежит в колыбели под вишней, А сверху летит смертоносный металл, Что не остановит уже и Всевышний.
И гриб, разрастаясь у всех на глазах, Как чудище, мир растерзал кровожадно… И замерло время на мертвых часах, Которым уже ничего здесь не жалко.
… А летчик с заданья вернулся домой, Устроился в кресле с дочуркою рядом И к сердцу прижал ею той же рукой, Которой на город он сбрасывал атом.
И девочка нежно прильнула к нему, И сжала ладонь его с детскою силой, Не зная о том, что в огне и в дыму Распятая бомбой лежит Хиросима.
Где бедный младенец под вишней кричит, Но мать его больше уже не услышит — В воронке от дома дымят кирпичи, И воздух отравлен, а девочка дышит…
Пройдет двадцать лет, и узнает она О том, что болезнь у нее лучевая… Помедлит немного в проеме окна И вниз устремится, глаза закрывая.
Одна из ста тысяч таких же сирот, Не знавшая с детства родительской ласки… В тот август отец ее бедный в живот Вонзил от отчаянья меч самурайский.