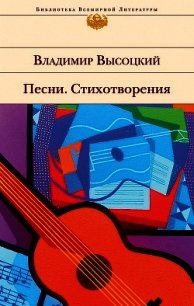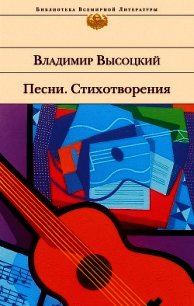Собрание сочинений в одном томе - Высоцкий Владимир Семенович (книги бесплатно без онлайн TXT) 📗
И совсем уже некстати вспоминалось вдруг просыпавшемуся инвалиду, как несколько лет назад, в Бутырке, измывались над ним заключенные. Вот входит он в камеру, предварительно, конечно, заглянув в глазок и опытным глазом заметив сразу, что играли в карты, однако пока он отпирал да входил, карты исчезали, а к нему бросался баламут и шкодник бутырский Шурик по кличке Внакидку и начинал его, Максима Григорьевича, обнимать и похлопывать со всякими ужимками и прибаутками ласковыми. Максим Григорьевич и знал, конечно, что неспроста это, что есть в этом какой-то тайный смысл и издевка, отталкивал, конечно, Шурика Внакидку и медленно проходил к койке, где только что играли, искал скрупулезно, вначале даже с радостным таким томлением, что вот сейчас под матрасом, обтруханным и худым, найдет колоду, сделанную из газет. Из восьми-десяти листов спрессована каждая карточка и прокатана банкой на табурете, а уголочки вымочены в горячем парафине, а трефы, бубны, черви да пики нанесены трафаретом. Но никогда, как <…> терпеливо и скрупулезно ни искал Максим Григорьевич, никогда он колоду не находил и топал обратно ни с чем.
А Шурик Внакидку снова его обнимал и похлопывал, прощаясь:
— Золотой, — дескать, — ты человек, койку вот перестелил заново, поаккуратней. Не нашел ничего, гражданин начальник? Жалко! А чего искал-то? Карты? Ай-ай, да неужто карты у кого есть?.. А я и не выё…сь! Это вы напрасно! Ну ладно, начальник, обшмонал и капай отсюда, а то я, гляди-ка, в одной майке, бушлатик помыли или проиграл — не помню уже. Отыграть надо! Так что не мешай, мил человек, будь друг.
Потешалась камера и гоготала, а у Шурика глаза были серьезные, вроде он и не смеется вовсе, а очень даже Максиму Григорьевичу сочувствует, <…> любит его в глубине лживой своей натуры.
Первое время Максим Григорьевич так и думал и зла на Шурика не держал. Шурик Голиков по кличке Внакидку был человек лет уже пятидесяти, но без возраста, давнишний уже лагерный житель, знавший все тонкости и премудрости тюремной сложной жизни. Надзирателей давно уже не ненавидел, а принимал их как факт — они есть, они свою работу справляют, а он свое горе мыкает.
Здесь Шурик был уже третий или четвертый раз, проходил он по делам все больше мелким и незначительным — карман да фармазон — и считался человеком неопасным, заключенным сносным, хотя и баламутом. Только потом узнал Максим Григорьевич, что карты он не находил потому, что колоду Шурик на нем прятал. Пообнимает, похлопает, приветствуя — и прячет, а прощаясь, достает.
Вспомнил это сейчас Максим Григорьевич — и в который раз разозлился и выругался про себя. Проснулся, значит. С добрым утром! Кому с добрым?! Вода жажду утолила минут на пять, а потом вырвало теплым и горьким. Походил хозяин по дому босым, помаялся и снова прилег. Хозяин. Да никакой он не хозяин в этом доме. Так, терпят да ждут, что помрет. Жена давно уж не жена, дочери — не дочери. Одна все плачет про свои дела, а другая — Тамарка — сука. Второй год с ним не говорит, да он и не затевает разговоров-то. Больно надо. Она и дома-то почти не бывает, таскается с кем-то и по постелям прыгает, подлая. Было, правда, затишье в молчаливой их с Тамаркой вражде. Это когда она в артистки собралась, да провалилась на конкурсе в училище театральное, а он тогда устроился пожарником в театр. Она к нему туда часто приходила, не к нему, конечно, а спектакли глядеть, но пускал-то ее — он, через служебный ход. Потом она дожидалась актеров, он в окошко видел со своего поста, как она уходит то с одним, то с другим, то с этим красивым и бородатым, то — но это уже потом — с маленьким и хрипатым, это который песни сочиняет и поет.
При воспоминании о театре снова его передернуло и потянуло блевать. Насильно выпил он воды, чтоб было чем, помучился да покричал над унитазом и снова лег. Сегодня одиннадцатое мая, а вчера в театре чествовали ветеранов. Их немного теперь осталось, но были все же. И Максиму Григорьевичу перепало за орден. Зачем он его нацепил! — орден? Он хотя и боевой, Боевого Красного Знамени, однако получен не за бои и войну, а за выслугу лет. Двадцать пять лет отслужил — и повесили плюс к часам с надписью: «За верную службу». Как розыскной собаке. Максим Григорьевич сильно выпил вчера на дармовщинку. Со многими пил, особенно с этим артистом, что с Томкой путался. Нехорошо это, конечно, — женатый все же человек, с дитем. Знаменитый, в кино снимается. А девка — совсем еще молодая, паразитка! Не мое это, конечно, дело, но все-таки.
Так вот, стало быть, артист этот — Сашка Кулешов, Александр Петрович, правду сказать, потому что лет ему тридцать пять уже, — расчувствовался на орден, тост за него, за Максима Григорьевича, сказал, что вот, мол:
— Мы все входим и выходим из театра. По крайней мере раза два в день видим Максима Григорьевича и привыкли к нему как к мебели, — а он-де живой человек, с заслугами, и фронт у него за спиной, и инвалид он, и орден Красного Знамени у него. А этот орден за просто так не дают — его за личную храбрость только. Это самый, пожалуй, боевой и ценный орден. Выпьем, — сказал, — за его обладателя, скромного и незаметного человека. И дай ему Бог здоровья!
Потом подсел к Максиму Григорьевичу с гитарой, спел несколько военных своих песен. Некоторые даже Максиму Григорьевичу понравились, хотя и знал он, что эти-то песни он поет везде, но пишет и другие — похабные, например «Про Нинку-наводчицу», и блатные. Их он поет по пьяным компаниям и по друзьям. А они его записывают на магнитофон — и потом продают. Он — Сашка Кулешов, сочинитель, — конечно, в доле. Максим Григорьевич песни эти слышал. Тамарка крутила. И они ему тоже нравились, да и парень этот был ему как будто даже и знаком — похож чем-то на бывших его подопечных, хотя здесь он играл, говорят, главные роли и считался большим артистом. Максим Григорьевич хоть и сидел без дела все дни напролет на посту своем, однако что делалось внутри, дальше проходной, не интересовало его совсем.
Один раз, правда, после того, как услышал дома песни, — спросил даже у Тамарки:
— Это хто ж такой поет?
— Мой знакомый!
— А он не сидел, часом?
— Он у тебя в театре работает. Кулешов это, Александр!
Максим Григорьевич даже рот раскрыл от удивления и на другой день пошел глядеть спектакль. Давали что-то из военной жизни. Кулешов и играл кого-то в солдатской одежде, и пел. И опять Максиму Григорьевичу понравилось. А вчера он про него еще тост сказал, и подсел, и песни пел. Нет! Он правда ничего себе — бутылку поставил, подливал и, конечно, стал расспрашивать про боевые заслуги и за что орден.
Максим Григорьевич умел молчать. Бывало, человек раз-два спросит его о чем-нибудь. А он не ответит. Человек и отстанет. А вчера он от выпитого расслабился и стал болтлив, даже расхвастался.
— Да что орден, Александр Петрович, Саша, конечно, ты мне. Ордена не у одного меня. Чего про него говорить.
— Да не скромничай, Максим Григорьевич!
— А чего мне скромничать! Я, дорогой Саша, такими делами ворочал, такие я, Сашок, ответственные посты занимал и поручения выполнял, что видь ты меня тогда, лет тридцать назад, — ахнул бы, а лет сорок — так и совсем бы обалдел. — Занесло куда-то в сторону бывшего старшину внутренних войск МВД, и уже сам он верил тому, что плел пьяный его язык, и, уже всякий контроль и нить утеряв, начал он заговариваться и сам же на себя и напраслину возвел: — Я, Саш, Тухачевского держал!
— Как держал? — опешил Саша и перестал бренчать.
— Так и держал, Саш, как держут, — за руки, чтоб не падал.
— Где это?
— А где надо, Саш!
Про Тухачевского, конечно, Максим Григорьевич загнул. Это просто фамилия всплыла как-то в его голове, запоминающаяся такая фамилия, Тухачевского он, конечно, не держал, его другие такие держали, но мог бы вполне и Максим Григорьевич. Потому что других он держал, тоже очень крупных. И вполне мог держать Максим Григорьевич кого угодно. О чем он сейчас и имел в виду сказать Саше Кулешову.