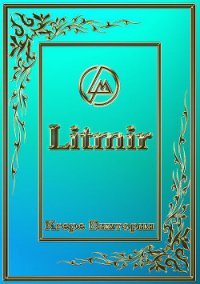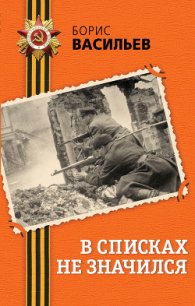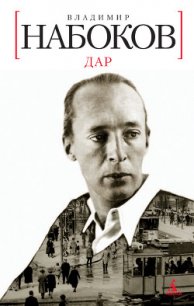Событие - Набоков Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений TXT) 📗
ЛЮБОВЬ:
Алеша, посмотри мне в глаза.
ТРОЩЕЙКИН:
Оставь. Я считаю, что это нужно сделать, хотя бы на две недели. Отдохнем, очухаемся.
ЛЮБОВЬ:
Так позволь тебе сказать. Я не только никогда не поеду к ревшинской сестре, но вообще отсюда не двинусь.
ТРОЩЕЙКИН:
Люба, Люба, Люба. Не выводи меня из себя. У меня сегодня нервы плохо слушаются. Ты, очевидно, хочешь погибнуть… Боже мой, уже совсем ночь. Смотри, я никогда не замечал, что у нас ни одного фонаря перед домом нет. Посмотри, где следующий. Луна бы скорее вышла.
ЛЮБОВЬ:
Могу тебя порадовать: Марфа просила расчета. И уже ушла.
ТРОЩЕЙКИН:
Так. Так. Крысы покидают корабль. Великолепно… Я тебя на коленях умоляю, Люба: уедем завтра. Ведь это глухой ад. Ведь сама судьба нас выселяет. Хорошо, предположим, будет при нас сыщик, но нельзя же его посылать в лавку. Значит, надо завтра искать опять прислугу, как-то хлопотать, твою дуру сестру просить… Это заботы, которые я не в силах вынести при теперешнем положении. Ну, Любушка, ну, детка моя, ну, что тебе стоит. Ведь иначе Ревшин мне не даст, это же вопрос жизни, а не вопрос мещанских приличий.
ЛЮБОВЬ:
Скажи мне, ты когда-нибудь задумывался над вопросом, почему тебя не любят?
ТРОЩЕЙКИН:
Кто не любит?
ЛЮБОВЬ:
Да никто не любит: ни один черт не одолжит тебе ни копейки. А многие относятся к тебе просто с каким-то отвращением.
ТРОЩЕЙКИН:
Что за вздор. Наоборот, ты сама видела, как сегодня все заходили, интересовались, советовали…
ЛЮБОВЬ:
Не знаю… Я следила за твоим лицом, пока мама читала свою вещицу, и мне казалось, я понимаю, о чем ты думаешь и каким ты себя чувствуешь одиноким. Мне показалось, мы даже переглянулись с тобой, как когда-то, очень давно, переглядывались. А теперь мне сдается, что я ошиблась, что ты не чувствовал ничего, а только все по кругу думал, даст ли тебе Баумгартен эти гроши на бегство.
ТРОЩЕЙКИН:
Охота тебе мучить меня, Люба.
ЛЮБОВЬ:
Я не хочу тебя мучить. Я хочу поговорить хоть раз с тобой серьезно.
ТРОЩЕЙКИН:
Слава богу, а то ты как дитя относишься к опасности.
ЛЮБОВЬ:
Нет, я не об этой опасности собираюсь говорить, а вообще о нашей жизни с тобой.
ТРОЩЕЙКИН:
А - нет, это - уволь. Мне сейчас не до женских разговоров, я знаю эти разговоры, с подсчитыванием обид и подведением идиотских итогов. Меня сейчас больше интересует, почему не идет этот проклятый сыщик. Ах, Люба, да понимаешь ли ты, что мы находимся в смертельной, смертельной…
ЛЮБОВЬ:
Перестань разводить истерику! Мне за тебя стыдно. Я всегда знала, что ты трус. Я никогда не забуду, как ты стал накрываться вот этим ковриком, когда он стрелял.
ТРОЩЕЙКИН:
На этом коврике. Люба, была моя кровь. Ты забываешь это: я упал, я был тяжело ранен… Да, кровь! Вспомни, вспомни, мы его потом отдавали в чистку.
ЛЮБОВЬ:
Ты всегда был трусом. Когда мой ребенок умер, ты боялся его бедной маленькой тени и принимал на ночь валерьянку. Когда тебя хамским образом облаял какой-то брандмайор за портрет, за ошибку в мундире, ты смолчал и переделал. Когда однажды мы шли по Заводской и два каких-то гогочущих хулигана плыли сзади и разбирали меня по статям, ты притворился, что ничего не слышишь, а сам был бледен, как… как телятина.
ТРОЩЕЙКИН:
Продолжай, продолжай. Мне становится интересно! Боже мой, до чего ты груба! До чего ты груба!
ЛЮБОВЬ:
Таких случаев был миллион, но, пожалуй, самым изящным твоим жестом в этом жанре было, когда ты воспользовался беспомощностью врага, чтобы ударить его по щеке. Впрочем, ты даже, кажется, не попал, а хватил по руке бедного Миши.
ТРОЩЕЙКИН:
Великолепно попал - можешь быть совершенно спокойна. Еще как попал! Но, пожалуйста, пожалуйста, продолжай. Мне крайне любопытно, до чего ты можешь договориться. И это сегодня… когда случилось страшное событие, перевернувшее все… Злая, неприятная баба.
ЛЮБОВЬ:
Слава богу, что оно случилось, это событие. Оно здорово нас встряхнуло и многое осветило. Ты черств, холоден, мелочен, нравственно вульгарен, ты эгоист, какого свет еще не видал. Ну а я тоже хороша в своем роде. Только не потому, что я "торговка костьём", как вы изволили выразиться. Если я груба и резка, то это ты меня сделал такой. Ах, Алеша, если бы ты не был так битком набит самим собой, до духоты, до темноты, ты, вероятно, увидел бы, что из меня сделалось за эти последние годы и в каком я состоянии сейчас.
ТРОЩЕЙКИН:
Люба, я сдерживаю себя, сдержись и ты. Я понимаю, что эта зверская ночь выбивает из строя и заставляет тебя говорить зверские вещи. Но возьми себя в руки.
ЛЮБОВЬ:
Нечего взять - все распалось.
ТРОЩЕЙКИН:
Ничего не распалось. Что ты фантазируешь? Люба, опомнись! Если мы иногда… ну, орем друг на друга, то это не значит, что мы с тобой несчастны. А сейчас мы как два затравленных животных, которые грызутся только потому, что им тесно и страшно.
ЛЮБОВЬ:
Нет, неправда. Неправда, Дело не в наших ссорах. Я даже больше тебе скажу: дело не в тебе. Я вполне допускаю, что ты был счастлив со мной, потому что в самом большом несчастье такой эгоист, как ты, всегда отыщет себе последний верный оплот в самом себе. Я отлично знаю, что, случись со мной что-нибудь, ты бы, конечно, очень огорчился, но вместе с тем быстренько перетасовал бы свои чувства, чтобы посмотреть, не выскочит ли какой-нибудь для тебя козырек, какая-нибудь выгода - о, совсем маленькая! - из факта моей гибели. И нашел бы, нашел бы! Хотя бы то, что жизнь стала бы ровно вдвое дешевле. Нет-нет, я знаю, это было бы совсем подсознательно и не так грубо, а просто маленькая мысленная субсидия в критический момент… Это очень страшно сказать, но когда мальчик умер, вот я убеждена, что ты подумал о том, что одной заботой меньше. Нигде нет таких жохов, как среди людей непрактичных. Но, конечно, я допускаю, что ты меня любишь по-своему.
ТРОЩЕЙКИН:
Это, вероятно, мне все снится: эта комната, эта дикая ночь, эта фурия. Иначе я отказываюсь понимать.
ЛЮБОВЬ:
А твое искусство! Твое искусство… Сначала я действительно думала, что ты чудный, яркий, драгоценный талант, но теперь я знаю, чего ты стоишь.
ТРОЩЕЙКИН:
Что это такое? Этого я еще не слыхал.
ЛЮБОВЬ:
Вот услышишь. Ты ничто, ты волчок, ты пустоцвет, ты пустой орех, слегка позолоченный, и ты никогда ничего не создашь, а всегда останешься тем, что ты есть, провинциальным портретистом с мечтой о какой-то лазурной пещере.
ТРОЩЕЙКИН:
Люба! Люба! Вот это… по-твоему, плохо? Посмотри. Это - плохо?
ЛЮБОВЬ:
Не я так сужу, а все люди так о тебе судят. И они правы, потому что надо писать картины для людей, а не для услаждения какого-то чудовища, которое сидит в тебе и сосет.
ТРОЩЕЙКИН:
Люба, не может быть, чтобы ты говорила серьезно. Как же иначе, конечно, нужно писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него.
ЛЮБОВЬ:
Ради бога, не начинай рассуждать. Я устала и сама не знаю, что говорю, а ты придираешься к словам.
ТРОЩЕЙКИН:
Твоя критика моего искусства, то есть самого моего главного и неприкосновенного, так глупа и несправедлива, что все прочие твои обвинения теряют смысл. Мою жизнь, мой характер можешь поносить сколько хочешь, заранее со всем соглашаюсь, но вот это находится вне твоей компетенции. Так что лучше брось.
ЛЮБОВЬ:
Да, говорить мне с тобой не стоит.
ТРОЩЕЙКИН:
Совершенно не стоит. Да сейчас и не до этого. Нынешняя ночь меня куда больше тревожит, чем вся наша вчерашняя жизнь. Если ты устала и у тебя заходит ум за разум, то молчи, а не… Люба, Люба, не мучь меня больше, чем я сам мучусь.