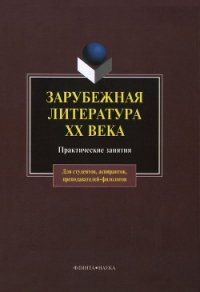Зарубежная литература ХХ века. 1940–1990 гг.: учебное пособие - Лошаков Александр Геннадьевич (полная версия книги TXT) 📗
Короче говоря… она спит на боку, спиной ко мне. Вдоволь наворочавшись и убедившись в бесплодности обычных уловок, помогающих нырнуть обратно в забвение, я решаю продублировать мягкий зигзаг, образованный ее телом. Когда я начинаю пристраивать свою голень к ее икре, мышцы которой расслаблены сном, она чувствует мою возню; не просыпаясь, она поднимает левую руку и сдвигает свои волосы с плеч на затылок, чтобы я мог уткнуться в ее голую шею. В ответ на эту неизменную инстинктивную любезность я всякий раз содрогаюсь от прилива чувств. Мои глаза щиплет от слез, и я едва сдерживаюсь, так мне хочется разбудить ее и напомнить о том, как я ее люблю. Своим бессознательным жестом она затрагивает самые основы моей любви к ней. Конечно, она ни о чем не догадывается; я никогда не говорил ей об этой крохотной ночной радости, которую она дарит мне с таким постоянством. Хотя, наверное, говорю сейчас.
Вы думаете, что на самом-то деле она успевает на секунду проснуться? Я понимаю, что это ее движение может казаться сознательным актом вежливости – мелочью, которая сама по себе приятна, однако едва ли свидетельствует о том, что корни любви уходят куда-то под смоляной пласт сознания. Вы правы в своем скептицизме; влюбленным можно доверять лишь до известного предела, ведь они тщеславны, как политики. Но я докажу вам свою правоту. Вы уже поняли, что волосы у нее до плеч. Но несколько лет назад, когда нам пообещали затяжную летнюю жару, она коротко постриглась. Ее шея была открыта для поцелуев круглые сутки. И в темноте, когда мы лежали под одной простыней и я истекал потом, как калабриец, когда срединная часть ночи была коротка, но одолеть ее все равно было непросто, – я поворачивался к этой стилизованной букве S рядом с собой, и она, что-то неразборчиво бормоча, пыталась убрать с шеи несуществующие волосы.
«Я люблю тебя, – шепчу я в этот спящий затылок, – я люблю тебя». Все романисты знают, что их искусство выигрывает от недоговоренности. Соблазняясь дидактикой, писатель должен представлять себе щеголеватого капитана корабля перед надвигающимся штормом: как он кидается от прибора к прибору в фейерверке золотой тесьмы, как отдает в переговорную трубу решительные команды. Но внизу никого нет; машинное отделение отсутствует, и руль отказал много веков назад. Капитан может разыграть прекрасный спектакль, убедив не только себя, но и кое-кого из пассажиров; все-таки судьба их плавучего мира зависит не от него, а от безумных ветров и угрюмых течений, от айсбергов и случайных рифов.
Однако иногда обиняки литературы все же вызывают у романиста естественное раздражение. В нижней части эльгрековских «Похорон графа Оргасского» в Толедо есть группа угловатых фигур в плоеных воротниках. Предающиеся своей показной печали, они смотрят в разные стороны. И только один из них с мрачной иронией смотрит прямо на нас – и мы не можем не заметить, сколь нелестен его взгляд. По традиции считается, что это изображение самого Эль Греко. Вот я, говорит он. Я и есть автор. И я за все это в ответе, потому и не прячу глаз.
Поэтам, видимо, проще писать о любви, чем прозаикам. Для начала у них есть это уклончивое «я» (если я напишу «я», вы потребуете, чтобы не позже чем через пару абзацев вам объяснили, кто имеется в виду – Джулиан Барнс или какой-нибудь вымышленный персонаж; поэт может вальсировать между тем и другим, не теряя ни в глубине чувства, ни в объективности). Еще поэты, похоже, могут обращать плохую любовь – любовь эгоистическую, дрянную – в хорошую лирическую поэзию. Прозаикам не дано навевать этот восхитительный обман. Плохую любовь мы можем обратить только в прозу о плохой любви. Поэтому мы слегка завидуем (и не совсем доверяем) пишущим о любви поэтам.
А они сочиняют то, что именуется любовной поэзией. Из их опусов составляются книги под названиями типа «Поющие Сердца – Антология Шедевров Любовной Лирики». Кроме того, есть еще письма; из них получаются сборники, озаглавленные «Сокровищница Золотого Пера, Лучшие Любовные Послания Всех Времен и Народов» (книга – почтой). Но нет такого жанра, который подходил бы под определение любовной прозы. Это звучит неуклюже, почти парадоксально. «Любовная Проза: Справочник Работяги». Продается в магазинах плотницкого инвентаря.
Канадская писательница Мейвис Галлант сказала: «Тайна, которую представляет собой любящая пара, это, пожалуй, единственная настоящая тайна, еще не раскрытая нами, и когда мы раскроем ее, литература – да и любовь тоже – будет уже не нужна». Прочтя это впервые, я нарисовал на полях шахматную пометку «!?», означающую красивый, но, возможно, ошибочный ход. Однако со временем точка зрения канадки возобладала, и пометка сменилась на «!!».
«Пусть мы умрем – но будет жить любовь». К такому выводу осторожно подобрался в своем стихотворении «Арундельская могила» Филип Ларкин. Эта строчка удивляет нас, ибо почти все творчество поэта есть похожее на выкручиванье фланелевой тряпицы избавление от иллюзий. Нам приятно, когда нас подбадривают; но сначала прозаику положено нахмуриться и спросить: а не сфальшивила ли эта поэтическая фанфара? Действительно ли любовь переживет нас? Мысль, конечно, соблазнительная. Было бы куда как приятно, если бы любовь оказалась источником, который будет излучать энергию и после нашей смерти. На экранах старых телевизоров, когда их выключали, оставалось световое пятно размером с флорин – потом оно понемногу таяло, превращаясь в микроскопическую искорку, и исчезало. Мальчишкой я ежевечерне наблюдал этот процесс, смутно желая замедлить его (и с юношеской меланхолией усматривая в нем подобие неизбежного исчезновения во вселенском мраке крохотного огонька человеческой жизни). Что ж, и любовь будет так вот светиться, когда телевизор уже выключат? Мой опыт этого не подтверждает. Вместе с последним из любящих умирает и любовь. Если от нас что и останется, так скорее что-нибудь другое. Ларкина переживет отнюдь не его любовь, а его стихи; это очевидно. Перечитывая конец «Арундельской могилы», я всегда вспоминаю Уильяма Хаскиссона. В свое время он был очень известным политиком и финансистом; но теперь мы помним его только потому, что 15 сентября 1830 года, на открытии Ливерпульско-Манчестерской железной дороги, его первого задавило насмерть поездом (вот чем он стал, во что обратился). Любил ли Уильям Хаскиссон? Пережила ли его эта любовь? Никто не знает. Все, что от него осталось, – это тот миг роковой беспечности; смерть превратила его в камею, в иллюстрацию безжалостной поступи прогресса.
«Я тебя люблю». Первым делом спрячем эти слова на верхнюю полку; в железный ящичек, под стекло, которое при случае полагается разбить локтем; в надежный банк. Нельзя разбрасывать их где попало, точно трубочки с витамином С. Если эти слова всегда будут под рукой, мы начнем прибегать к ним не думая; у нас не хватит сил воздержаться. Мы-то, конечно, уверены в обратном, но это заблуждение. Напьемся, одолеет тоска или (самое вероятное) взыграет известного рода надежда, и вот пожалуйста – слова уже использованы, захватаны. Нам может показаться, что мы влюбились, и захочется проверить, так ли это. Как мы узнаем, что у нас на уме, покуда не услышим собственных слов? Остерегитесь – они не отмываются. Это высокие слова; мы должны быть уверены, что заслужили их. Вслушайтесь, как звучат они по-английски: «I love you». Подлежащее, сказуемое, дополнение – безыскусная, незыблемая фраза. Подлежащее – коротенькое словцо, которое как бы помогает влюбленному самоустраниться. Сказуемое подлиннее, но столь же недвусмысленно – в решающий миг язык торопливо отскакивает от неба, освобождая дорогу гласной. В дополнении, как и в подлежащем, согласных нет; когда его произносишь, губы складываются словно для поцелуя. I love you. Как серьезно, как емко, как веско это звучит.
Мне видится тайный сговор между всеми языками мира. Собравшись вместе, они постановили придать этой фразе такое звучание, чтобы людям было ясно: ее надо заслужить, за нее надо бороться, надо стать ее достойным. Ich liebe dich: полуночный сигаретный шепот, в котором счастливо рифмуются подлежащее и дополнение. Je t'aime: здесь сначала разделываются с подлежащим и дополнением, чтобы вложить весь сердечный пыл в долгий гласный последнего слова. (Грамматика тут надежнее; заняв второе место, предмет любви может уже не бояться, что его заменят кем-то другим.) Я тебя люблю: дополнение снова занимает вселяющую уверенность вторую позицию, но теперь – несмотря на оптимистическую рифму в начале – здесь слышится намек на трудности, препятствия, которые нужно будет преодолеть. Ti amo – возможно, это чересчур смахивает на аперитив, но выигрывает благодаря твердому согласию подлежащего и сказуемого, делателя и действия, слитых в одно слово.