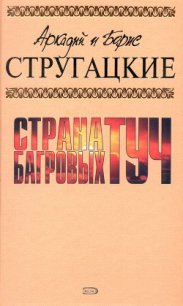О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
А вражды — никакой.
«Прости, прекрасное прошлое. Мы ушли от тебя». Вот отношение. Теперь слушайте же другие воспоминания.
В третьем классе гимназии, оставленный «на второй год», я плохо учился. Латынь и прочее. И был у меня репетитор, приснопамятный Алексей Николаевич Николаев, светлую память коего я храню до сих пор, ибо он, кажется, всему доброму меня научил, — всему светлому и идейному. Жил я в доме его матери, и, следовательно, он не то что «давал мне уроки», а жил и занимался со мною. Тогда имен я не знал, а теперь знаю, — и знаю, что он был «народник и теоретический социалист». Он был учеником VII класса гимназии (тогда гимназии были семиклассные, а не восьмиклассные, как теперь). Как сейчас помню его золотистые, чуть-чуть вьющиеся волосы, — мягкое, влекущее к себе обращение, с «уклончивостью» от старших, от родителей, от начальства. И этот общий тон его духа: — «Эх, что делать, — надо терпеть. Всего говорить — не приходится. Но — времена переменчивы». И как будто он брал тебя руками — и куда-то уносил в «переменчивые времена». Ни гимназия, ни университет, никакая наука и никакая серьезность не заменили и не могли заменить того вдохновения, какое он давал «собою» и «из себя». Готовился он (тогдашний дух эпохи), конечно, — в медики, и, конечно, — в реалисты, «быть около народа» и «помогать народу». Это было в Симбирске, в 1872–1874 годах, а там — благодетельно была основана «Карамзинская библиотека», с бесплатным отпуском всем жителям книг на дом, при взносе трехрублевого залога. Весь город брал книги и весь город действительно просвещался из этой библиотеки, кажется, — прекрасно организованной и поставленной. Вот, однажды, он приходит и, бросая книгу на мой столик, говорит: «Вот, что, Вася, — ты все романы читаешь, — а пора тебе и за серьезное приниматься. Прочти тут Литературные мечтания».
…Годы (меня поздно отдали в гимназию)— 15 лет. А каждому понятно, что такое 15 лет. Уже «17 лет» — совсем другое; и «14 лет» — тоже другое. 15-й год в жизни переживается только один раз, — и счастлив тот, у кого именно этот год переживается хорошо… Едва я раскрыл книгу, как необыкновенная живость и свежесть мысли, — язык огненный, смелый, «вступающий в борьбу со всем», — ну, в борьбу с тогдашним, Белинского, миром, но которую я сейчас же перенес мысленно на свое время, ибо времени Белинского вовсе и не знал, — все это до того «схватило и увлекло меня», что, зная, что нельзя держать дольше двух недель библиотечных книг, и чувствуя невозможность расстаться «с таким мыслителем, как Белинский», я стал немедленно же переписывать «Литературные мечтания» себе в собственность, т. е. себе в тетрадь…
Что увлекало? Мысли ли? О, конечно, и — мысли. «Все так неопровержимо». Теперь-то я вижу, однако, что, конечно, не «мысли», которых проверить я и не имел никаких средств в свои 15 лет и с опытом грех классов гимназии: а увлекло собственное рождение в себе другой души, новой и лучезарной, которой восприемником и акушером был Белинский, так гармонично сливавшийся с моим чудным репетитором. Что же это был за мир и новая душа? В чем суть? По «закоулочкам» нашей жизни вообще много грязнотцы, много мелкого, грубого, и отчасти определенного злого и черного. И — гимназия, и — быт. Но, пожалуй, более чем «злого» — много слишком обыкновенного, вульгарного, мещанского, низменного. Да, в самом деле, оглянемся: в средние века строились, т. е. были «насущным теперь», готические кафедралы, с чудесами вымысла в них, фантазии и необыкновенною: были рыцари и «оруженосцы» около них, которыми, естественно, так хотелось бы быть гимназисту; были — турниры; были — замки и вечные войны около них. Все было красиво и нарядно, опасно и занимательно. Что же такое «XIX-й» век и что он дает мальчику и девушке? Гимназия, уроки, долбёж, учителя, т. е. чиновники. Кругом — мещанская жизнь, т. е. служба и жалованье. И так все это серо, так все это (идейно) дождливо, облачно, безнадежно, тускло, что всякий, кто сколько-нибудь одарен воображением и сердцем, — делает величайшие усилия прорвать этот тоскливый «дождь» обстановки и души и открыть путь к какой-нибудь дали, к чему-нибудь «бесконечному», к чему-нибудь более узорному, красочному и занимательному. Повторяю: возьмем ли мы эпоху великих королей и королевских войн, эпоху революции, эпоху реформации, эпоху средних веков — везде мы найдем нечто питающее воображение и сердце юноши; но в наше время, «такое серьезное и педагогическое», мы — ничего этого не найдем. Великая сродность нашего времени с социализмом, сродность с ним слоев населения, погруженных в самый безнадежный серый труд, — как я думаю, объясняется не столько реальным расчетом «покончить с печальной действительностью», сколько этим романтическим переносом в «будущее» тех узоров и красок, без которых решительно не может обходиться душа человеческая. Социализм — роман будущего, вот в чем секрет. А без «романа» человек не может жить. Без «романа» в религии, без романа — в быте, в чем-нибудь. Позвольте, «даль» — всегда нужна человеку. «Безбрежность» — нужда ему. Какая же, черт возьми, «безбрежность» в буржуазной жизни и в переговорах дипломатов соседних стран?!! Что «мне» — до них! А жить, мечтать и творить, хочется каждому «мне». И каждое «я», чем больше оно угнетено, чем больше оно сжато, задушено и оскорблено своею «норкой» — пытается вырваться из нее «вдаль», которая обобщенно получила имя «социализма». Пусть это — фантазия, но она — необходима. Как для средних веков — схоластические споры, для Греков — метафизика Платона, для Рима — «власть над миром». Вот. Ну, хорошо. Вернемся же к Белинскому. Он расторгал этот «дождь действительности», «дождь будней», исторических будней, и всякую душу вводил в необозримый мир, который можно назвать обобщенно «идейностью»…
Правда, он занимался только «критикой». Но ведь в России под критикой всегда разумеется «черт знает что». Разумелось — «решительно все». И потому, что у нас всегда была критика «по поводу»… Ну, а «по поводу» можно наговорить и политики, и социологии, и философии, и «родителей осудить», и «церковь задернуть»…
«По поводу» — это и прошедшее и будущее, это — вперед и назад, и везде «по сторонам».
Так «русские критики» были всегда в сущности «русскими философами». Немного «кустарными», но это ничего. Ведь Россия вообще дает впервые «историю» восточной половине Европы, и тут естественно все — «кустари», работают «своими средствами» и «на свой риск».
На Западе надо ссылаться на средние века, средние века ссылались на римлян, как римляне ссылались на греков. Ибо там — исторические пласты, исторические слои, многочисленные этажи одного и того же здания. А Россия есть просто «фундамент» Восточной Европы: и потом будут ссылаться на «опыт и мнения русских», а русским-то на что же сослаться? «Строим впервые» и на девственной почве.
Поэтому «русская критика» есть в то же время «русская философия», и — политика, и — социология. У нас «критика» — совсем не то, что в Германии, в Англии, во Франции. И не может быть этим. Там, в сложных напластываниях цивилизации, есть «разделение труда». У нас мужик «все сам работает», а критик — «за всех один думает». Вот откуда вытекло наше «по поводу»… Это и не каприз и не случайность. Это отнюдь не произвол…
Ну, хорошо. Перехожу далее и именно к Белинскому. У русских Белинский был то же, что у греков Фалес, — муж «во всем ошибавшийся», но — «первый». Как Фалес устранил эмпирическое созерцание действительности и начал первый искать каких-то современникам его непонятных «элементов всех вещей», «первых начал всего сущего», так у нас Белинский «отстранил действительный дождь» северных холодных стран, северных неинтересных стран, — и пошел искать «иного голубого неба». Определенные: живым и деятельным своим умом, умом закругленным и (по темам) универсальным, он стал «критически изучать» все вещи, изучать их «по поводу», — пытая об их «основательности», разумности и благости. Вот чем была его критика, столь не похожая на германскую, английскую и французскую с тамошним «разделением» труда, и вот откуда «критика» его получила такой волнующий и возбуждающий и воспитательный характер. Скажите, пожалуйста, он будто бы «неверно оценил Пушкина» (для примера); пусть так, но он — «научил нас добру»! Он «менялся» (тезис г. Айхенвальда): да, и научать каждого бросать сейчас же все, что оказалось бы ложным! Вообще, у него был, у Белинского был, какой-то метод нравственного воспитания, — совершенно безотчетно ему врожденный, и вот этим-то методом он и брал. Ведь и про Гегеля говорят, что у него только «метод», а не истины. Нечто подобное, но только в другой сфере, и, пожалуй, в сфере широчайшей — было у Белинского. Как-то необъяснимо в своем лице, в своем способе относиться ко всем вещам, первоначально — к вещам «литературным», а потом и «вообще», «по поводу», — он дал какой-то «моральный канон» русскому человеку, русскому уму, русскому сердцу, русскому характеру… Он положительно «наложил свой образ» на «всех нас», и с тех пор и до настоящего времени, почти до нашего времени, мы все имеем в душе, в методах мыслить и относиться к реальному миру, «нечто от Белинского»…