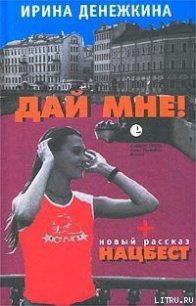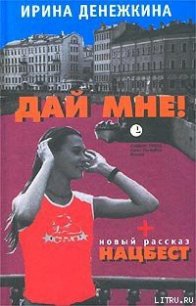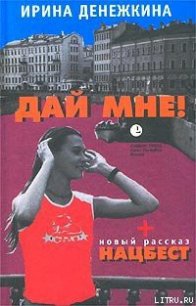Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
Повторяю, граница между тем и другим не только возрастная. Если детство – готовность к бесконечной радости (из «Дачной местности»: «Сын, каждый раз, как видел пушинку, радовался все сильнее; недоумение и растерянность, как шторка, падали на его лицо, когда он терял ее из виду, и радость еще более сильная сменяла эту растерянность»), то эта вера в детскую неистощимость покидает Битова, едва он помещает ребенка в отрицательно заряженное поле болезненно знакомого ему быта. «Фиг» – рассказ об очень милом «скверном мальчишке», по чьему житью-бытью рано расползаются опасные пустоши тусклой скуки. Оба главных битовских «антигероя» – Алексей Монахов и Лев Одоевцев – могут быть в известной мере сочтены взрослыми проекциями маленького «фига». Очень остро и жестко очерчена в рассказе семья, не слишком похожая на семью Алеши Монахова и все-таки принадлежащая к тому же внешне благополучному разряду, где взрослая жизнь «без изюминки» резко отчуждена от запросов любопытствующей детской души. Тут еще вдобавок лживость, двойная бухгалтерия: над родственниками витает тень знаменитого ученого деда, к которой внутренне оскудевшая семья приноравливает декоративные формы своего существования. Мальчишка, естественно, тянется не к матери – блюстительнице фамильных приличий, а к дядьке-«писателю», греющему руки на составлении отцовой биографии (этот же дядька – автор жутковатой, но емкой клички – «фиг»: мальчик ею польщен). «Журавли, журавли, не тревожьте солдат», – распевает дядюшка, попахивая коньяком и нарочно коверкая песню, а мальчишка радуется фиглярству пройдохи, нарушающему серость заведенных в доме порядков.
Но вот уморительная сцена: скучливо послонявшись и так и не решившись на крупную шалость, Алеша-«фиг» становится в маминой комнате перед большим зеркалом, в руке – рюмка с молоком, и принимается откашливаться и раскланиваться, репетируя – в роли прославленного дедушки – спич на банкете. Невинный спектакль, но все меты в рассказе расставлены так, что остается горький осадок: мальчишка вырастет если не дурным, то несчастным. Зеркало, перед которым он так смешно позирует, потом упрячется в его черепную коробку и будет служить для наведения на себя чужого оценивающего взгляда.
Малодушная зависимость от чужой оценки, искушение и совращение ею – действительно, один из опаснейших подводных рифов отрочества, что-то между десятью и восемнадцатью годами. Но в прозе Битова отрочество, столь легко колеблемое внешними ветрами, окрашивает своим психологическим колоритом неопределенно длительный этап жизни основного героя; соответствующие «комплексы» завязываются куда как рано и потом, действуя в виде тайно сосущих и жгущих осадков, заталкивают этого героя в западню. Он словно вязнет и буксует в затянувшемся отрочестве, теряя чувство собственного пути, ощущая себя на поводу, который держит чужая рука.
В этом повороте символическое битовское «детство» противопоставлено «отрочеству» – как простор возможностей диктату зависимости, как видение заснеженного сквера, где «белые деревья, и роются красные, зеленые, синие дети» (рассказ «Бездельник»), – кошмару каких-то полуосвещенных коридоров, где неопределенная тень «старшого» загораживает выход и предлагает то ли отправиться на место и отсидеть до звонка, то ли «стыкнуться» в подвале; как «миф» о вольном празднике – «мифу» о плене у нависающего приятеля-соперника, «мифу о Митишатьеве». Митишатьев – «друг детства» молодого Одоевцева – подновленный вариант беса-искусителя; тот, кто, срывая на виду у робеющего «вечного новичка» замки и засовы с нравственно запретного, налагает на своего смирного приспешника клеймо зависимости и неполноценности.
… Странное дело, битовский «отрок» не знает дружбы как отношений равенства или как подражания более высокому, чем ты сам, человеческому образцу, – дружбы, спасительно укрепляющей личность. Как будто в нем всегда живет маленький «фиг», рвущийся из родительского «зажима» в объятия циника. Приятельство означает для него попытку утвердиться в принципиально чужом мнении, отнюдь не уважаемом, но тем не менее забравшем над ним верх вопреки его природе и семейной оснастке. Приятель (он же соперник) для неуверенного «новичка» – ближайший представитель «всех», «остальных», которых не обойти и не переиграть, перед которыми надобно «сохранять лицо». От этого персонажа не обязательно несет митишатьевским серным душком, но в разных обличьях («лучший друг Мишка» из ранней повести, вулканолог Генрих Ш. из «Путешествия к другу детства») он непременно сопутствует центральному лицу. И, наконец, в ироническом «антипутешествии» по Средней Азии рассказчик братается с совсем уж неавторитетным представителем «чужого мнения» и «старшинства» – виртуозно обобравшим его жуликом, который вдобавок моложе его летами, – и так, с опозданием на десятилетия, осуществляет детскую мечту о том, чтобы чужак, вожак, соперник приметил его существование…
Все эти нити сведены воедино, к своему истоку у «раннего» еще Битова в «Аптекарском острове» – трагической истории о ребенке, тщетно искавшем признания более искушенных сверстников. В этом рассказе второклассник Зайцев представляет исходно близкий писателю тип «новичка», виновато ускользающего из родительского дома в предвкушении запретных чудес. Недавно вернувшийся из эвакуации домашний мальчик, он застенчив, неловок, безнадежно отстал от здешней мальчишеской жизни, от забав в неразобранных городских руинах – и чем сильнее нуждается в поводыре, тем больше у него вероятности попасть в грубые руки поработителя. Всегдашний «Митишатьев», совратитель и проводник по «злачным местам», представлен в рассказе двумя подловатыми фигурами – заводилы и его клеврета. После долгого заискивающего ожидания Зайцева эти двое наконец берут его с собой – в свой мир, свою игру, – и он, как отныне всегда будет приключаться с битовским персонажем, немедленно изменяет долгу ради волнующей тайны и чужого одобрения (сегодня как раз надо бы ему поспеть домой, на день рождения отца, привязанного к мальчику истеричной, нечуткой любовью)… Впоследствии взрослая судьба центрального лица битовской прозы повторит – в нечетких, размытых очертаниях (сердце уже не так колотится) – те же немногие резкие линии на ребячьей ладошке: и побег на «свободу» от семейно-социальных связей, и пронзительно свежее – но вороватое – прикосновение к тайне за пределами каждодневного быта, и все равно не побежденное чувство зависимости от чьей-то насмешливой оценки, и память о собственной неправоте и неизбежной близкой расплате…
С трепетом осваивая неизведанные развлечения, храбрясь под взглядами своих спутников («Тюфяк!» – говорят ему), бедняга Зайцев в конце концов сильно повреждает ногу. И приятели-предатели бросают его одного, совершенно охромевшего, в нескольких непреодолимых кварталах от дома. Главное же и подлинно драматическое место в рассказе – диалог ребенка с непослушной, вспухшей «но-гой», которая – хоть убей – не хочет идти. Как, однако, рано складывается эта механика «заговаривания» молчаливой судьбы – и заискивание, и попытки разжалобить, и робкие кощунства, и гордый бунт, и бессильно затухающие попреки. И все-таки «судьба» побеждена стоицизмом ребенка. В критической ситуации мальчик обретает независимость от обидчиков и из внутренних ресурсов души черпает энергию для невозможного – превозмогая боль, проходит-таки свой неотменимый путь. У постоянного битовского персонажа вряд ли есть впереди хоть одна столь несомненная и возвышенная победа. Но победа эта достигнута ценой глухого одиночества.
В творчестве Битова есть та (по вскользь брошенному слову писателя) «полная открытость» которая, оставляя «невидимой» биографию автора как частного лица, делает видимой его «душу» – она просматривается до самой своей завязи, видны и клады ее и: беды. В пределы этой души Битов и замкнут – что-то мешает ему наполнить мир своей прозы жизнями, равноценными собственной, какой-то запретительный знак стоит на изображении иного, инакового душевного содержания, на плодотворной догадке о том, «что думает другой человек, Икс-Имярек-Иванов, который другой, не ты». В размышлении о людях и матери-природе – в «Птицах» – рассказчик пишет о том, «как человеку необходим зверь», и жалуется: «в детстве у меня не было своего зверя (детство вдруг предстало более жалким и нищим, чем было)». Но не большая ли обреченность одиночеству – раннее отсутствие «другого как Друга»? За «эготизмом» битовского персонажа прячется подросток, не пробившийся к дружбе, как бы отгороженный от нее семейным гнездом, не почерпнувший уверенности в глазах близкого и единомысленного и возмещающий эту потерю попытками утвердиться и «показать себя» в среде заведомых антагонистов. Если угодно; это серьезная социально-педагогическая проблема, поставленная всей совокупностью психологической прозы Битова.