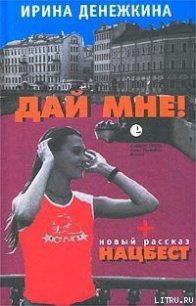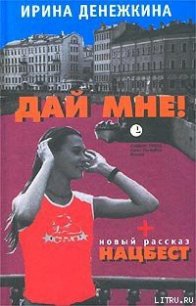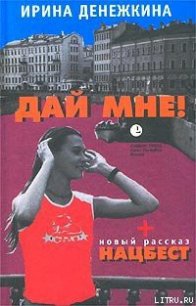Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
Чтобы оттенить эту изобличительную погоню примером разумной уравновешенности, напомню один эпизод из несправедливо подзабытой яркой повести Фазиля Искандера «Морской скорпион». Там тоже присутствует близкий автору герой, проходивший в 70-е годы по номенклатуре «амбивалентных», то есть чуждый позднесоветскому укладу, но принятый тогдашней критикой более снисходительно, чем битовские мнимые имморалисты, щедро доносящие на самих себя. Так вот, герой искандеровской повести Сергей Башкапсаров вспоминает эпизод студенческих лет: внезапно сладившаяся любовная связь с подмосковной «фабричной девчонкой» («как она естественна во всем, – подумал Сергей, восхищаясь ею»), прогулка с ней на загородные танцы, нападение хулиганистой компании и – Сергей струсил, не посмел вступиться, когда его спутницу отхлестал по щекам бывший ухажер. «После всего, что было позавчера» Сергей отказывается от своей недолгой подруги, считая, что «не имеет права на эту девушку, которую не сумел защитить». «Она стояла у пруда в нескольких шагах от играющих в мяч. Сергей поздоровался с ней, чтобы не делать вида, что не замечает ее, и продолжал играть, а она одиноко так постояла еще минут десять-пятнадцать, а потом, видимо, поняв, что Сергей к ней не подойдет, тихо ушла». Герой долгое время изнывал от стыда, пока какой-то очередной случай не позволил ему удостовериться в своей физической храбрости и не «ослабил силу унизительного воспоминания, но до конца забыть его Сергей никогда не мог. Он не осознавал, что сила раскаяния по поводу того вечера сама по себе была мощным нравственным светом, предохранявшим его от возможных падений во многих других случаях жизни». У Искандера, как видим, соблюдены здравые пропорции между мерой проступка и мерой раскаяния, между самобичеванием героя и умудренностью автора, знающего о его, герое, положительных нравственных возможностях. Легко представить себе, во что, в какие внутренние корчи, вылился бы тот же «случай из жизни» под пером Битова – ведь читали же мы его «Пенелопу»! Все то, что дано у Искандера лишь вскользь и под флером позднейшей примирительной оценки, здесь зациклилось бы на неискупимом отвращении к себе, смешанном с раздражением против виновницы позора и, заодно, с нечистым соблазном продолжить знакомство. Что ж, если раньше «битовскую» ситуацию охотно квалифицировали как безнравственную, то теперь, по миновении дидактизма и с воцарением прагматизма, ее скорее всего сочтут «болезненной»; недаром еще Фрейд считал Гамлета душевнобольным, поскольку принц знает о себе (и о человеке вообще) такое, что здоровый человек вытесняет в область бессознательного. Ради чего, в самом деле, застигать себя или своего двойника за мелкими уловками и пакостями, которые закономерно сходят с рук всякой адаптированной человеческой особи?
Решусь сказать, что всевозможные въедливые расследования и самодопросы с пристрастием инициированы у Битова тоской по идеалу. Понимаю: слегка насмешливая аура, какой окружены подобные манипуляции в его прозе, плохо вяжется с этим торжественным словосочетанием. И тем не менее оно годится.
Можно сказать еще и так: тоска по эросу бытия. Тоска по чистым тонам отмытого до первородного блеска окоема: «А вижу я кактус на подоконнике. Каждую его иголочку. Сам зеленый, а иголочки рыжие. А за окном небо, почему-то синее. Снег сверкает. Снег и кактус. Красный трамвай с белой крышей изогнулся на повороте… И купол такой голубой, что растворяется в небе. Церковь и кактус. Черно-белые деревья…» («Бездельник», – сравните с ламентацией в «Лесе»: «… ему предстояла жизнь, давно лишенная цвета»).
Тоска по чистоте со-жития с другими: до чего же трудно человеку с человеком – мальчику с матерью, сыну с отцом, любимому с любимой, мужу с женой, приятелю с приятелем, свекрови с невесткой, встречному со встречным – проза Битова пестрит этими затруднениями, психодрамами, торможениями на пустом вроде бы месте. «И как она с ней ладит?» – ядовито спрашивает Ася о матери и о жене Алексея Монахова. И впрямь – как? Из повести «Лес» узнаем, что не ладит (впрочем прежняя жена там уже сменилась на новую). Единственный памятный момент сближения (притом в чересчур традиционной для русской прозы сцене) – это когда кучка прохожих помогла упавшей лошади подняться («Бездельник»); сладкий миг, но он быстро миновал.
Тоска по высоте: не отсюда ли залезание на колокольни, минареты, башни в битовских «путешествиях»? Тоска по «образу мира, который раньше мира» («Человек в пейзаже»).
Известно, что проза Битова эгоцентрична, то есть сосредоточена на единственном центральном «я» в разных его вариациях. Можно увидеть тут некое ограничение, наложенное природой и биографией на его талант. Но можно взглянуть по-другому – вывести это свойство как раз из сильных, стержневых особенностей его склада. Писать иначе мешает ему заповедь честности, соблюдаемая с особой щепетильностью. «Хорошо придумывать то, что было, но невозможно сочинить то, чего не было» («Обоснованная ревность») – этот занятный парадокс можно расшифровать так, что любой свой вымысел Битов готов удостоверить опытно нажитыми данными. А есть один только их несомненный источник – собственная жизнь, «единственная из доступных мне правд», согласно уже поминавшейся формуле. Честность, доведенная до геркулесовых столпов, до, так сказать, практического солипсизма.
Битов начинал с цикла рассказиков о других, окружающих, о «Людях, которые…» (мы теперь знакомы с этими опытами благодаря выпущенной им «Первой книге автора»). Но – забросил эту копь. Это, в его системе отсчета, были все же гипотетические люди – один Бог ведает, каковы они на самом деле, внутри себя. Нельзя в точности знать, «что думает человек, Икс-Имярек-Иванов, который другой, не ты» («Жизнь в ветреную погоду»). Таким выводом ставится под сомнение огромный массив наилучшей всеевропейской прозы Нового времени (Толстой, проникший в душу Наташи Ростовой, и пр., и пр.). Но рукой Битова водит своеобразный максимализм: раз про другого ничего нельзя узнать точно, узнать как про самого себя, значит все мы – одинокие монады несмотря на усилия этики сочувствия и искусства душеведения.
Это заявлено им в самом начале – в «Бездельнике» – и определяет его дальнейший писательский путь эгоцентрика поневоле: «Многие люди проходят мимо меня, и я что-то понимаю про некоторых, они перестают быть незнакомыми – и проходят мимо, уходят… Что-то тут не так. Особенно если девушки. Тут острее чувствуешь утрату: целый мир – взгляд – и мимо, мимо… И мне кажется: в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, и даже не останавливаемся, ни ты, ни она, не стучим в стенку, и не пишем пальцем, и не делаем знаков – проходим мимо, и столько в этом горького опыта невозможности. Один-человек плюс один-человек – равно два один-человек. Особенно если женщины… Особенно если друзья… Особенно если дети… Особенно если старики». Рассказчик – юноша, еще не привыкший смиряться с равнодушными законами существования, но вывод о «горьком опыте невозможности» распространяется на все возрасты Битова-жизнеописателя. Алеша Монахов, для которого дороже необъяснимой, ускользающей Аси нет на свете существа, любит не ее, а образ, спроецированный в его душу молодой страстью, – и только многие годы спустя он начинает с болью догадываться о том, что вычитала страсть из истинного Асиного облика, о реальной Асиной жизни, нелегкой и угнетающе-прозаической. А метафора прозрачных стен, которыми мы отгорожены друг от друга, повторится в очередной повести монаховского цикла: «… словно они трогали стекло с двух сторон и касались пальцами пальцев, но через стекло».
Как разбить стеклянную капсулу, как пробиться к другому? Битов находит неожиданное средство коммуникации – самопостижение. Познав себя, но до донышка, не лукавя, как на Страшном суде, – поймешь и других. Потому что в главном «одинаково у всех…» (см. эпиграф к настоящим заметкам). Или еще: «Как же мы не понимаем… что другие понимают и чувствуют то же, что и мы?»