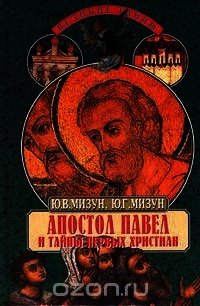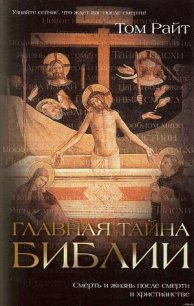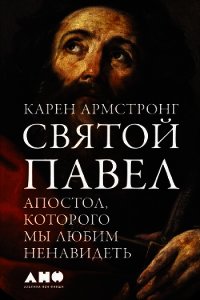Что на самом деле сказал апостол Павел - Райт Том (читать книги онлайн txt) 📗
Павел нарушил покой язычников вовсе не затем, чтобы еще раз, но более гладко, рассказать им о том, что они и без него знали. Он хотел вернуть их к реальности, которую тщилось спародировать язычество. На мой взгляд, можно выделить шесть основных «объектов» этой пародии (хотя, возможно, их было гораздо больше). Говоря о каждом из них, я вынужден буду ограничиться самым общим описанием тех поистине необъятных предметов, которые можно и должно исследовать намного глубже.
Во–первых, Павел говорит о реальности истинного Бога и дела Его рук — тварного мира. Это полностью противоречило убеждениям язычников: они хотя и признавали, что мир «кем–то» создан, но неизменно отождествляли творца с той или иной природной силой. В этой связи нельзя не заметить, насколько мало изучены Павловы представления о Боге, но даже если они оказываются предметом внимания, то лишь в их отношении к традиционному иудаизму. На мой взгляд, именно «ревность о Боге», явившемся в Иисусе Христе, придает его традиционно иудейской критике языческого идолопоклонства новое звучание и смысл.
Это особенно заметно в текстах вроде Кол 1:15–20. Весь он — торжествующая песнь благости и богоданности тварного мира, но без малейшего намека на языческое обожествление твари. Вместе с тем мы находим здесь более полное и завершенное представление о едином Боге–Творце. Как мы видели, оставаясь в рамках иудейского монотеизма, Павел в то же время вдохновенно размышляет о сокровенном бытии единого Бога, открывшегося ему как Творец, Господь и Дух, или Отец, Господь и Дух, или Создатель, Сын и Дух, — можно сказать по–разному. В этом и состояла главная новость, которую предстояло вместить язычникам: вместо привычного для них многобожия — весть о едином Боге, вместо обожествления природы — весть о том, что мир сотворен, но это никоим образом не умаляет его достоинств.
Во–вторых, Павел, несомненно, посягает на все прежние культовые практики. Языческий мир буквально кишел богами всех сортов и на все случаи жизни. Что бы ни задумал сделать человек, — пройти в дверь или отправиться в плавание, обзавестись семьей или посадить дерево, — сначала он должен был задобрить и умилостивить соответствующих богов. Повсеместные жертвоприношения «поставляли» намного больше мяса, чем могли вместить в себя их непосредственные участники, и его приходилось продавать на рынках, что, кстати, создавало трудности, описанные в 1 Кор 8–10.
Однако для нас в данном случае интересней всего то, что, предлагая свое видение этой ситуации, Павел, по сути, играет с огнем. Отчасти его ответ коринфянам можно считать первой письменной фиксацией богословия евхаристии: именно таким способом он доказывает несовместимость участия в трапезе Господней и возлежания на пиру демонов. Для него это не просто требующий практического разрешения «нравственный казус», но возможность показать, что христиане составляют «пришедшую в полноту» общину Израилеву, и потому они наследуют все прежние символы, но, прежде всего, те, которые восходят к исходу из Египта (1 Кор 10). Евхаристическая трапеза, с точки зрения Павла, превращает церковь в «общину исхода» и одновременно обращает в прах все демонские застолья подобно тому, как реальность перечеркивает пародию на нее. Однако в полемике с язычниками Павел не впадает в дуализм: он не лишает их права наслаждаться творением. Скорее, в распятии Иисуса и «воспоминании» об этом событии Павлу видится та «последняя правда», в сравнении с которой язычество, мягко говоря, нелепо. Павел не заимствует свой образ евхаристии из языческих мистерий или жертвоприношений. Истоки его коренятся в иудейском монотеизме, и именно поэтому евхаристия для него указывает на ту реальность, рядом с которой все языческие культы — не более чем гримасы призраков.
В–третьих, Павел обнажает всю бессмысленность языческих представлений о власти вообще и об империи, в частности. Если бы мы видели в Павловом богословии только учение об оправдании верой, то неизбежно пришли бы к тому, что все его слова о начальствах и властях как бы ни к чему не ведут. Но если мы действительно пытаемся понять, как Павлова проповедь завоевывала языческий мир, эти рассуждения приобретают для нас особую ценность.
Мы уже говорили о том, что во второй и третьей главах Послания к Филиппийцам Павел открыто (и, следует заметить, намеренно) говорит об Иисусе образами, которые перекликаются и, более того, на глубинном уровне полемизируют с принятыми в империи именованиями кесаря. В современном Павлу языческом мире, в частности, в Римской империи, а еще точнее, в самом Риме, существовал мощный культ императоров. Уже во времена Тиберия его предшественник Август почитался «богоравным», так что каждый последующий император становился сначала «сыном бога», а затем — и самим богом. Словосочетание Kyrios Kaisar означало «Кесарь — господь».
Большую часть римских язычников господство кесаря вполне устраивало: религиозное почитание мыслилось как одно из проявлений политической лояльности. Но тут появляется Павел и говорит: нет, Kyrios Iesus Christos, Иисус Христос — Господь. Причем обращает он эти слова, не в последнюю очередь, к находящейся на территории Римской колонии общине, которая все прелести владычества кесаря испытывала на себе. Но он знал, что делает. В христологии Послания к Филиппийцам, в частности, второй его главы, угадывается не только все богатство иудейского богословия, но и прямой выпад против «святая святых» римского язычества — императорской идеологии. Как известно, столетие спустя за отказ поклониться кесарю был сожжен престарелый епископ Поликарп. Он хорошо усвоил смысл второй главы Послания к Филиппийцам.
И снова — о происхождении и противостоянии. По своему происхождению христология Послания к Филиппийцам, безусловно, иудейская. Именно на иудейской традиции, в частности, на 40–55–й главах Книги пророка Исайи, зиждется вера Павла в то, что победа истинного Бога станет окончательным поражением всех лжебогов. Таким образом, противостояние язычеству восходит к иудейскому истоку. «Властям мира сего» противостоит единый истинный Господь всей твари.
В–четвертых, Павел нес качественно новые представления о человечности, в корне отличающиеся от того, как это мыслили себе язычники. В том, что принято называть «этическим учением», в размышлениях об общине и прежде всего в богословии и праксисе новой жизни в умершем и воскресшем Иисусе Христе он увещевает и призывает новообращенных жить и поступать сообразно человеческому достоинству. Павел видит, насколько разрушительно язычество, и предлагает взамен иной «модус бытия», глубоко укорененный в иудейской традиции, но вместе с тем обретший новый смысл в Иисусе и в Духе. Он убежден, что именно такая «практическая этика» способна сделать то, к чему, как казалось Павлу до обращения, призвана Тора, то есть покончить с язычеством на его же территории. В его богословии общины Римская империя, подвластная, как иронически пишет Павел, «князю мира сего», уступает место imperium'y Иисуса Христа, подлинного Князя мира, служить которому можно, только любя друг друга. Если Иисус восставал против Храма, Павел восстает против империи. Поэтому неудивительно, что его считали опасным.
В–пятых, языческой мифологии Павел противопоставляет правдивую историю мироздания. По странной иронии, в течение последнего столетия наши исследователи в основном мифологизируют раннее христианство. Большинство из них (и не только в связи с апостолом Павлом) по сути пересказывают более или менее современные им события и пытаются усмотреть в них откровение единого истинного Бога. Да откройте любой сборник языческих мифов, и вы найдете там куда больше правды о нынешних временах. Христианская же история берет на себя функции «мифа» лишь постольку, поскольку она рассказывается общиной с тем, чтобы осмыслить и подтвердить свое нынешнее бытие. В отличие от античной мифологии, история, рассказанная Павлом и его последователями, имела смысл прежде всего потому, что она была правдивой и повествовала о событиях, происходящих в историческом времени и пространстве. Павел развертывает перед слушателями реальность — не просто «духовную реальность», запредельную, незримую или таинственным образом открывшуюся только ему, но вполне земную, облеченную в кровь и плоть реальность смерти и воскресения Иисуса из Назарета. Больше того, мироздание в Павловой истории не стоит на месте, а все время куда–то движется. Языческому «антиисторизму» и историософским мечтаниям о «золотом веке» он противопоставляет линейное представление о времени, которое движется от сотворения мира к новому творению.