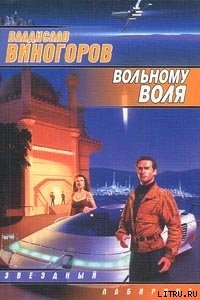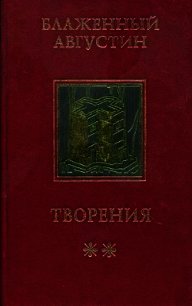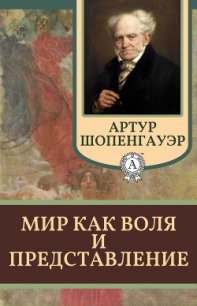Священное - Отто Рудольф (лучшие книги txt) 📗
1. Это утверждение было бы изначально ложным, если бы священное было тем, за что его принимают при некотором словоупотреблении, скажем, в философии, а иногда и в теологии. Дело в том, что мы имеем обыкновение говорить о «священном» исключительно в переносном, но никак не в изначальном смысле. А именно, мы понимаем его обычно как абсолютный, нравственный предикат, как нечто совершенно доброе. Так, Кант называет священной такую волю, которая без колебаний подчиняется моральному закону из побуждения долга. Но тогда это будет просто совершенная моральная воля. Точно так же говорят о святости долга или закона, когда подразумевают не что иное, как их практическую необходимость, их общезначимую обязательность. Но такое употребление слова «священное» нельзя считать строгим. Хотя священное включает все это, тем не менее оно содержит в себе, даже на уровне нашего чувства, некий отчетливый избыток, который собственно и позволяет его отличать. Более того, слово «священное» и равноценные ему слова в семитских, латинском, греческом и других древних языках означали, прежде всего и преимущественно лишь этот избыток. Момента же морального они либо вообще не касались, либо затрагивали его не изначально и уж никак не сводились к нему исключительно. Поскольку наше нынешнее чувство языка, несомненно, всегда подводит священное под нравственное, то при поисках той особенной специальной составной части (по крайней мере для временного использования в самом нашем исследовании) было бы полезно отыскать какое-то особое наименование, которое обозначало бы священное минус его нравственный момент и, стоит сразу добавить, минус его рациональный момент вообще.
То, о чем у нас идет речь и что мы попытаемся в какой-то степени передать, т. е. дать почувствовать, живет во всех религиях как подлинное их внутреннее ядро, без которого они вообще не были бы религиями. Но с особой силой оно живет в религиях семитских, а среди них неповторимо выделяется библейская религия. Здесь оно получило и свое собственное имя — qadosch, соответствующее hagios и sanctus, а еще точнее — sacer. Несомненно, что во всех трех языках это наименование означает «благо» или добро как таковое, т. е. на высочайшей ступени развития и зрелости идеи, а потому мы переводим его как «священное». Но в таком случае это «священное» является лишь последующей этической схематизацией и подменой своеобразного первоначального момента, который сам по себе может быть равнодушен к этическому, но который можно принять во внимание ради него самого. И у истоков развития этого момента все указанные выражения, бесспорно, обозначают нечто совсем иное, нежели благо. Это признается практически всеми сегодняшними интерпретаторами. Толкование qadosch как «добра» правомерно считается рационалистическим искажением.
2. Так что для этого момента во всем его своеобразии нужно найти имя, которое, во-первых, сохраняло бы его специфику, а во-вторых, позволяло бы уловить и обозначить его возможные разновидности и ступени развития. Для этого я образую слово нуминозное (если от omen можно образовать ominos, то от numen получается numinos). Таким образом, речь пойдет о нуминозном как своеобразной категории толкования и оценки и равным образом о нуминозной настроенности души, которая всякий раз наступает там, где есть первое, т. е. там, где объект может считаться нуминозным [1]. Поскольку эта категория целиком относится к sui generis, то она, как все изначальное и основополагающее, не является строго определимой, но лишь возможной для обсуждения. Пониманию нуминозного можно помочь, указав на тот пункт, куда следует направить свой дух слышащему это слово, дабы он сам мог осознать, откуда оно проистекает. Такой способ можно подкрепить, указав на сходное с ним или характерное для него противоположное, что имеет место в других, уже известных и заслуживающих доверия сферах духа, а затем прибавить: «Наше X не является этим, но сходно с ним, а тому оно — противоположно. Не придет ли оно теперь само тебе на ум?» Иными словами, нашему X нельзя в строгом смысле научить, его можно только вызвать, пробудить — как и все, что приходит «от духа».
Глава третья. «Чувство тварности» как отражение нуминозного чувства-объекта в чувстве самого себя
1. Мы призываем вспомнить момент сильной и наивозможно односторонней религиозной возбужденности.
Того, кто не может этого сделать или кто вообще не испытывал такого момента, мы просим далее не читать. Ибо с тем, кто может вспоминать о своих периодах полового созревания, о своих запорах или своих социальных чувствах, а вот о собственно религиозных чувствах — нет, с тем тяжело обсуждать учение о религии. Его можно простить, если он пытается для самого себя с помощью известных ему принципов объяснения продвинуться вперед настолько, насколько это возможно, и, скажем, толкует «эстетику» как чувственное удовольствие, а «религию» — как функцию влечения к общению и социальным ценностям, или даже еще примитивнее. Но эстетик, который способен сам испытать эстетическое переживание в его особенности, поблагодарит и отставит в сторону эти теории. Еще скорее это сделает человек религиозный.
Мы призываем далее при испытании и анализе таких моментов и душевных состояний торжественного благоговения и умиления как можно точнее обратить внимание на то, что отличает их от состояний, скажем, нравственной приподнятости при лицезрении доброго дела, т. е. на то, чем они превосходят их и отличаются от них в содержании чувств. Как христиане, мы прежде всего сталкиваемся здесь, несомненно, с чувствами, которые знакомы нам в ослабленном виде и по другим областям, — с чувствами благодарности, доверия, любви, уверенности, смиренного подчинения и преданности. Но это никоим образом не исчерпывает момента набожности, и все это еще не передает совершенно своеобразных черт «праздничности», «торжественности» редкого и только здесь встречающегося умиления.
2. Один весьма примечательный элемент такого переживания был удачно уловлен Шлейермахером. Он называет его чувством «зависимости». Однако это значительное его открытие нуждается в поправках двояким образом.
Во-первых, то чувство, которое он, по сути, имеет в виду, как раз не является по своему качеству чувством зависимости в. «естественном» смысле этого слова. В других областях жизни и переживания чувство зависимости может встречаться как чувство собственной недостаточности, бессилия, скованности, связанности условиями окружающего мира. То чувство, о котором идет речь, пожалуй, соответствует таким чувствам, а потому может по аналогии обозначаться с их помощью; благодаря им оно может «рассматриваться» и подвергаться воздействию, чтобы затем становиться доступным чувству уже благодаря самому себе. Но сама суть дела, вопреки всем сходствам и аналогиям, все же качественно иная, чем у этих аналогичных чувств. И сам Шлейермахер настоятельно отличает чувство благоговейной зависимости от всех прочих чувств зависимости. Но именно как «единственное» от просто относящегося к этому, т. е. он отличает его только как завершенное от всего в какой-то степени к нему причастного, но отличает не по особенному его качеству. Он не замечает того, что мы, собственно, имеем в виду лишь аналогию с сутью дела, если называем ее чувством зависимости.
Обнаружит ли теперь читатель — с помощью такого сравнения и противопоставления — у себя самого то, что я имел в виду, но не мог выразить иначе? Не мог как раз потому, что речь идет об изначальной и основополагающей данности, т. е. об определяемой лишь через саму себя данности в душевном мире. Быть может, я смогу помочь ему, привлекая хорошо известный пример, где именно этот момент, о котором мы здесь говорим, представлен самым ярким образом. Когда Авраам осмелился говорить с Господом об участи содомитов (Быт. 18:27), он сказал: