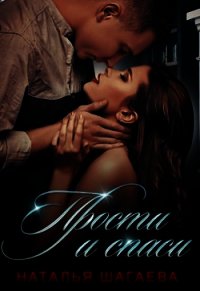Пастырь Добрый - Фомин Сергей Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации .txt) 📗
— Все это очень удивительно нам было, — закончили они свой рассказ. — Скажите, кто за него так молился?
Я им все рассказала, как было. Одна из них немного знала батюшку. Многим потом они это рассказывали.
Спасибо батюшке, что по его молитвам были такие сестры. Они очень облегчали дело. После панихиды пошла благодарить о. Константина и просить его молиться за упокой души Михаила. Тут же побежала к батюшке. Я влетела к нему как буря и выпалила:
— Спасибо, батюшка, родной, дорогой, он умер, да еще как хорошо! У него сидел какой–то священник с женой. Она, бледная, испугалась и
вскочила, не понимая в чем дело. Батюшка был в восторге, так и сиял. Велел все рассказать подробно.
— Батюшка, ну а где душа его теперь? — спросила я, забываясь.
Я так полюбила эту душу и так привыкла охранять ее, что мне хотелось и к Господу ее проводить и удостовериться насчет ее места. Батюшка строго посмотрел на меня и сурово сказал:
— Александра! Об этом не спрашивают о. Алексея. Разве можно? — И мягко и тепло добавил: — Его душе теперь хорошо.
Ясно было, что он очень хорошо знает, где находится душа Михаила.
— Ну, идите домой. Сейчас же! — добавил он, зная, что у меня такое настроение, при котором меньше всего можно дома усидеть.
— Вы мне очень помогли. Вы так молились, ведь я знаю, — помолчав, сказал он.
— Батюшка родной, да разве я молилась? Это вы.
— Нет, молилась. Я сам видел.
Мне сделалось страшно, так как за Михаила я молилась только по вечерам в соседней церкви или дома.
— Исполнили дело хорошо, — продолжал он. — Радуюсь за вас. Скажите о. Константину, что из всех духовных детей о. Алексея, а их у него много, у него нет такой, как у о. Константина.
Удивленно посмотрела я на батюшку. Ведь это все его было дело, а я–то при чем? И мне стало стыдно. Он меня этими словами сразил.
Когда он бывало так говорил, то пробуждал всегда страшное желание стараться исправиться. Он говорил то, чего ты не делал; хвалил иногда то, чего у тебя не было, для того, чтобы побудить тебя работать и приобрести действительно то, о чем он говорил.
Я видела то, что он доволен мной, и что у него можно просить, чего хочешь.
Я попросила его помолиться за мужа, который очень замучился и чувствовал себя очень плохо. Он вздрогнул и посмотрел поверх меня вдаль. Мне стало страшно.
— Нет… этот раз ничего… пройдет, — облегченно вздохнул он.
— Батюшка родной, сделайте так, чтобы он поскорее выздоровел (я всегда так говорила вместо: помолитесь).
Но здесь были чужие и батюшка, строго взглянув на меня, сказал:
— Вы хотите сказать, чтобы я помолился о нем? Хорошо. Я помолюсь о нем. Не давайте ему волноваться, берегите его. Пусть больше лежит. А на похороны лучше бы не ездил, — сказал он, подумавши. — Ну, ничего не поделаешь, если ему так уж хочется. Все время будьте с ним. В церковь не ходите. Ко мне прибегайте, когда только можно. Ну, да вас учить нечего. Вы хорошая сестра милосердия. Сумеете. Будет очень трудно, но ничего, все обойдется. На! Вот тебе! — и он всю меня осенил большим благословением, как будто с ним он хотел перелить в мою душу всю силу своей души на новое это мое делание.
Действительно, это послушание оказалось очень трудным, так как муж был очень расстроен душевно. Но вся болезнь на этот раз окончилась благополучно. А через два года после батюшкиной кончины Ваня мой снова заболел так же. Потом прибавились новые заболевания, от которых он скончался. В этот раз, когда батюшка за него так испугался, он, очевидно, провидел будущую его болезнь.
Идя домой, чувствовала радость, что нашему Михаилу теперь хорошо, но было и предчувствие чего–то тяжелого, болезнь мужа и трудность моего послушания.
Муж болел долго и я ежедневно бегала к батюшке, который учил меня почти что каждому шагу — как ухаживать за Ваней. Как–то прихожу к батюшке и спрашиваю его, нужно ли молиться за дочь нашего умершего и ее мужа.
— Нет, оставьте это, — сказал он подумавши. — Они люди такие и ведут жизнь такую! Не нужно! — как бы сердясь на кого–то, сказал он.
Сам–то он, дорогой, знал, как нужно за них молиться и, наверное, делал это до тех пор, пока это было нужно. А нам–то, конечно, было непонятно, как за таких людей нужно молиться. Здесь дело было не в том, что они неверующие, а в том, что образ жизни их был не тот.
Помолчав, сказала:
— Я, батюшка, тогда все передала о. Константину, что вы сказали, и он был очень рад, что я себя хорошо вела и тоже похвалил.
Батюшка тотчас же понял, что когда он меня тогда похвалил так сильно, я только удивилась и не приняла это на свой счет, а теперь к этой мысли стала привыкать. Он серьезно посмотрел на меня и сказал:
— Это хорошо, что о. Константин доволен вами. Он хвалит редко и потому каждое его слово особенно ценно. Он зря не будет говорить. Цените его, ох, как цените малейшее его одобрение! Он знает, что говорит. Это не то, что я, старый болтун, говорю иногда так, зря. — И он снова остро взглянул на меня.
Если и зарождалось во мне самодовольство, то оно исчезло, и я сразу почувствовала, что батюшка действительно так, зря, хвалил меня. Я потупилась и сказала:
— Батюшка, больше не буду. Он улыбнулся.
Часто–часто так бывало: батюшка заметит в тебе какое–нибудь неправильное движение души, объяснит, выговорит, не называя, а ты сейчас же поймешь и на его мысли ответишь: не буду.
А раз он вот так выговаривал, и я неясно поняла, в чем дело, но все же ответила:
— Не буду. Батюшка вдруг спросил:
— Что не буду?
Я засмеялась, смутилась и сказала:
— Не знаю что, но знаю, что не буду.
Он засмеялся и долго потом улыбался, когда я говорила «не буду».
Помню, как делалось грустно, когда проводила к батюшке последнюю свою «душу». Думалось: в церкви к нему уже больше не подойдешь и дома незачем его будет тревожить, «душ» больше нет, а самой мне нельзя — у меня «свой» есть. И простишься с церковью и со всем. А, глядишь, и опять приходилось спрашивать его о том или о другом. И каждый раз он велел говорить и про себя и так постепенно приучал меня к откровениям ему, причем всегда требовал, чтобы говорила ему только главное, а все остальное о. Константину.
Главное было все, что касалось Вани, а также, что случалось особенного в жизни моей души.
С «душами» приходилось иногда ждать в кабинете, где был народ. И я там слыхала много интересного и хорошего. Немножко раскрывалась жизнь души каждого из них. К батюшке приходили со скорбями, а уходили с радостью. Приходили тяжелыми, а уходили легкими. И для этого не нужно было много говорить с ним. Он все знал. Он никогда не отпускал человека в скорби или со смятенной душой. Добьется, бывало, чтобы человек, успокоился, утешит, обласкает его и тогда только отпустит его.
А с пустяками не приходили к нему. К нему шли большею частью, когда исхода не было, в отчаяньи, при очень запутанных и трудных обстоятельствах. И какая сила нечеловеческая должна была быть в нем, чтобы в каждом правильно разобраться и поставить его на ноги. Великая его любовь христианская помогала ему в этом.
Он подходил к каждому человеку, каков бы он ни был и какое бы у него ни было маловажное дело, с чувством жалостливой любви. Он, как говорит народ, «жалел» каждого человека. Первое чувство, первая его мысль были всегда: как помочь, как облегчить человеку его бремя. Удивительно было его выражение, которое он многим часто говорил:
— Оставь здесь все у меня.
Действительно, он брал все на себя и к себе и отпускал людей радостными.
Эта его любовь, озаренная Духом Святым, делала то, что батюшка всегда правильно понимал душевное состояние людей и их жизненное положение.
Я не думаю, чтобы был хоть один человек, имевший дело с батюшкой, который мог бы сказать, что о. Алексей не понял его.