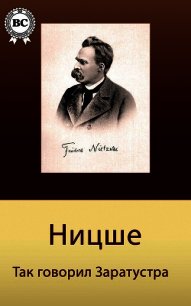Когда Ницше плакал - Ялом Ирвин (книги без сокращений .TXT) 📗
Когда я заявляю ему о том, что он позволил своей жизни стать цепью случайностей, он отрицает возможность выбора. Он говорит, что ни один носитель культуры не имеет возможности выбирать. Когда я осторожно упомянул наказ Иисуса оставить родительский дом и культуру в поисках совершенства, он объявил мой метод слишком уж эфемерным и сменил тему.
Забавно: в детстве у него была на вооружении концепция, которую он так и не смог увидеть во всем великолепии, — он был «исключительно одаренным парнем» — как и мы все, — но так и не понял, в чем заключалась эта одаренность. Он так и не понял, что его долг состоит в совершенствовании характера, преодолении себя, своей культуры, своей семьи, похоти, грубой животной природы, стать тем, кто он есть, и тем, что он есть. Он так и не вырос, так и не сбросил свою первую кожу: он увидел свое призвание в достижении материальных и профессиональных целей. И когда он достиг всего этого, так и не заглушив тот голос, который говорил ему: «Стань собой», он отчаялся и начал жаловаться на то, что его обманули. Даже сейчас он так ничего и не понимает!
Есть ли надежда? По крайней мере, его заботят настоящие проблемы и он не поддается религиозным обманам. Но в нем слишком силен страх. Как я могу сделать его сильным? Он как-то сказал, что холодные ванны полезны для укрепления кожи. Он выписал себе закаливание? Озарение помогло ему понять, что управляют нами не прихоти бога, а прихоти времени. Он понимает, что воля бессильна перед «так случилось». Хватит ли мне сил, чтобы научить его «так случилось» превращать в «этого я и хотел»?
Он настаивает, чтобы я позволил ему называть меня по имени, хотя и знает, что я этого не люблю. Но это не так уж страшно; я достаточно силен, так что могу уступить ему эту небольшую победу.
ПИСЬМО ФРИДРИХА НИЦШЕ, АДРЕСОВАННОЕ ЛУ САЛОМЕ. ДЕКАБРЬ 1882 ГОДА
Лу, вопрос о том, страдаю ли я, неактуален по сравнению с вопросом о том, обретешь ли ты, дорогая Лу, себя снова. Я никогда не встречал человека, которого мне было бы так же жаль, как тебя:
несведующую, но проницательную
умело использующую все, уже известное
с плохим вкусом, но не осведомленную в этом недостатке
честную, но по пустякам, преимущественно из упрямства
общая жизненная позиция которой — бессовестность
невосприимчива — не может ни брать, ни давать
бездуховна, неспособна любить
в состоянии аффекта ужасна и близка к безумию
неблагодарная, никакого стыда перед благодетелями
В частности
ненадежна
плохо воспитана
смутные представления о чести
мозг с первыми признаками души
натура кошки — хищница в шкуре домашней киски
благородство как остаточное явление после общения с благородными людьми
сильная воля, но по мелочам
нет ни прилежания, ни чистоты
сильно смещенная чувственность
детский эгоизм как следствие сексуальной атрофии и задержки полового созревания
не любит людей, зато любит бога
потребность в экспансии
хитра, потрясающий самоконтроль в отношении сексуальности мужчин
Твой
Ф.Н.
ГЛАВА 17
ПЕРСОНАЛ В КЛИНИКЕ ЛАУЗОН редко упоминал ИМЯ герра Мюллера, пациента палаты №13, с которым работал доктор Брейер. Да и сказать было почти нечего. Для занятых, загруженных работой людей он был идеальным пациентом. За первую неделю приступов мигрени не было. Он почти ни о чем не просил и требовал к себе мало внимания, кроме измерения признаков жизни — пульса, температуры, частоты дыхания, кровяного давления — шесть раз в день. Медсестры называли его вслед за фрау Бекер, ассистенткой доктора Брейера, настоящим джентльменом.
Однако было видно, что он предпочитает быть один. Он никогда не начинал разговор. Когда к нему обращался кто-то из персонала или пациентов, он отвечал дружелюбно и коротко. Он предпочитал есть в палате и после утреннего визита доктора Брейера (который, по предположениям медсестер, был посвящен массажу и электрическим воздействиям) проводил большую часть времени в одиночестве: он писал в своей палате или, если погода позволяла, делал записи, гуляя по саду. Герр Мюллер вежливо пресек все расспросы относительно того, что он пишет. Было лишь известно, что он интересуется Заратустрой, древнеперсидским пророком.
Брейера просто поражало несоответствие между безупречной вежливостью Ницше в клинике и пронзительным, даже командным тоном его книг. Когда он спросил об этом своего пациента, Ницше улыбнулся и ответил:
«Никакой загадки здесь нет. Когда никто не слышит, начать орать вполне естественно!»
Казалось, он был доволен своей жизнью в клинике. Он говорил Брейеру не только о том, что его дни были приятны и не омрачены болью, но и что их ежедневные беседы были полезны для его философии. Он всегда презрительно относился к философам вроде Канта и Гегеля, которые писали, по его словам, академическим стилем для академического сообщества. Его философия была о жизни и для жизни. Лучшие истины — кровавые истины, вырванные с мясом из собственного жизненного опыта.
До встречи с Брейером он никогда не пытался найти своей философии практическое применение. Проблему практического использования он считал второстепенной, утверждая, что о тех, кто не может его понять, не стоит и беспокоиться, тогда как лучшие представители человечества сами найдут свой путь к его мудрости, — если не сейчас, то через сто лет! Но ежедневные встречи с Брейером заставили его вернуться к этому вопросу и рассмотреть его более серьезно.
Тем не менее беззаботные продуктивные дни в клинике Лаузон не были для Ницше такой уж идиллией, как могло показаться на первый взгляд. Подземные потоки подтачивали его силы. Чуть ли не каждый день он сочинял длинные, отчаянные, полные тоски письма Лу Саломе. Ее образ постоянно вторгался в его мысли и воровал энергию у Брейера, у Заратустры, у искренней радости вкушения дней без боли. Жизнь Брейера в первую неделю пребывания Ницше в больнице и снаружи, и внутри была суматошной и мучительной. Часы, проведенные в Лаузоне, добавлялись к и без того перегруженному расписанию. Неизменное правило венской медицины звучало так: чем хуже погода, тем больше у врача работы. Неделю за неделей мрачная зима с ее беспросветно серым небом, ледяными порывами северного ветра и вязкий влажный воздух отправляла пациентов одного за другим нескончаемым ковыляющим потоком в его смотровой кабинет.
В записях Брейера лидировали зимние болезни: бронхит, воспаление легких, синусит, тонзиллит, отит, фарингит и эмфизема. Не обошлось, как всегда, и без пациентов с нервными расстройствами. В первую неделю декабря на пороге его кабинета появились два молодых создания с рассеянным склерозом. Брейер испытывал особую неприязнь к этому диагнозу: он не мог предложить достойного лечения и ненавидел оказываться перед дилеммой, говорить ли молодым пациентам, что ждет их впереди: постепенная потеря дееспособности, приступы слабости, паралич или слепота, которые могут начаться в любой момент.
Еще в эту первую неделю пришли две пациентки, у которых Брейер не смог найти никаких признаков органической патологии, зато он был уверен, что у них истерия. У одной из них, женщины средних лет, начинались спастические судороги, как только она оставалась одна. Вторая пациентка, девочка семнадцати лет, страдала судорогами ног и могла ходить только с двумя зонтиками вместо трости. Через разные промежутки времени с ней случались помутнения сознания, когда она начинала выкрикивать такие странные фразы, как, например: «Оставь меня! Поди прочь! Я не здесь! Это не я!»
Обе пациентки, думал Брейер, — кандидатуры на лечение разговором Анны О. Но тот терапевтический курс обошелся ему слишком дорого: на алтарь были положены его время, его профессиональная репутация, психическое равновесие, его семейная жизнь. Хотя он и клялся никогда больше за это не браться, он не мог решиться обратиться к традиционным, неэффективным терапевтическим методам — глубокому мышечному массажу и электрической стимуляции по точно установленной, но неподтвержденной схеме, предложенной Вильгельмом Эрбом в очень популярном «Учебнике по электротерапии».