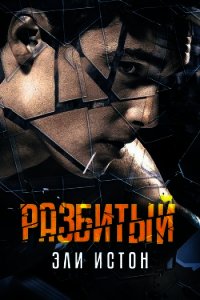Воспоминания о школе - Моска Джованни (бесплатные версии книг .txt) 📗
Ведь, несмотря на мою молодость, я был просто старым учителем, встретившим старого ученика.
— Вы все еще стреляете по мухам из рогатки?
— Конечно, — ответил я. — Стрелок я по-прежнему хоть куда. Эх… — добавил я, оглядываясь вокруг и притворяясь, будто нащупываю в кармане рогатку, — попадись мне сейчас какая-нибудь муха, я бы…
— Синьор учитель! — смутился Гверрески. — Все смотрят!
Бедный Гверрески! В свои восемнадцать лет он был уже взрослым и стеснялся таких вещей… Я же, слава Богу, нет.
Только учителя начальных классов в тридцать лет могут, пусть хоть на минутку, снова почувствовать себя детьми.
— Вам было бы за меня стыдно? — спросил я его.
Я нарочно обратился к нему на «вы», а не на «ты», что его одновременно и смутило, и обрадовало. Он посмотрел мне в глаза и, увидев в них усмешку, покраснел. Попрощавшись, он вернулся к своим одноклассникам, а я остался стоять, глядя им вслед. Они уже не смеялись и шли быстрым шагом, не оборачиваясь.
III. Волшебное дерево
Объяснять детям у доски технику рисунка и колористику, как это делают многие учителя в начальной школе, — по-моему, то же самое, что всерьез рассказывать двухлетнему ребенку о том, что надо говорить не «динь-дон», а «бронзовый колокол», то есть «колокол, отлитый из сплава олова и меди…»
В общем, занятие это совершенно бесполезное и, скажу больше, вредное.
Двухлетний карапуз, способный произнести все эти умные слова про колокол, кажется мне маленьким уродцем, которого можно показывать за деньги в цирке. Точно так же, как ученика начальной школы, который знает законы перспективы, анатомию и секреты всех тонов и оттенков. Я бы такого ребенка просто-напросто боялся и, попадись он в моем классе, срочно придумал бы какие-нибудь семейные обстоятельства и попросил перевод в другой город, от греха подальше.
Но, к счастью, таких детей не бывает — мои ученики всегда рисовали человечков строго определенным образом: одна нога на огромном расстоянии от другой, волосы дыбом, над волосами, едва их касаясь, шляпа, ушей, понятное дело, нет, но зато есть длиннющий ряд пуговиц, руки смахивают на высохшие стволы деревьев, из которых торчат пять, а иногда, по невниманию, и шесть тощих прямых веточек. В общем, те самые человечки, которых можно увидеть на стенах бедных кварталов, с обязательной подписью: «Джиджи цалуица с Марьеттой».

Эти простодушные мальчишки из начальных классов — они не знают не только что такое целоваться, но и как это пишется.
— Нарисуйте короля, — дал я как-то раз задание своим ученикам из третьего.
И Мартинелли — тот, что дарил мне карамельки и воровал для меня цветы на холме Оппио из парника с написанными на табличках латинскими названиями («Синьор учитель, тут что-то странное написано, но вы не думайте, это цветы…» — нарисовал такую картинку:

Он так его себе представлял, короля: сидящим высоко-высоко, с маленькими подданными внизу. А тот подданный с цветком в руке, возможно, был сам Мартинелли, укравший цветы для короля.
Зачем мне было объяснять ему, что король и короны-то почти никогда не носит и что на трон его уж точно проще забраться, чем на эту чудом стоящую башню из тумбочек и табуреток? Мартинелли ведь никогда не видел короля и слышал о нем до этого разве что от бабушки, которая иногда рассказывала ему сказки.
Тронов он, конечно же, тоже никогда не видел, так что не мог знать, как они выглядят. Он знал, что существуют стулья, табуретки, скамейки — жил он с мамой и маленькими братьями в довольно скромном домишке и даже не подозревал о существовании диванов и кресел. Куда ж ему посадить короля? На скамейку?
Или на соломенный стульчик, такой, на котором он сидел сам, когда делал уроки или обедал? Это несерьезно. Нужно было что-то, о чем Мартинелли не знал, потому что никогда в жизни не видел. Поэтому из уважения к королю он поставил друг на друга много скамеечек, стульев и табуреток, а на вершину этой чудом держащейся башни посадил короля. Так что подданные оставались далеко-далеко внизу и казались совсем крошечными. И я не собирался объяснять Мартинелли, что его человечки непропорциональны: ведь, нарушив пропорции, он нашел самый точный способ подчеркнуть величие короля.
Как-то раз после прогулки по Римскому Форуму я сказал ребятам:
— Нарисуйте то, что вас больше всего поразило.
И Ронкони, мальчик, чьи мысли были гораздо старше его самого, хотя сам он об этом и не подозревал, — глаза у него были огромные и черные, личико тонкое и бледное, на тонких запястьях проступали вены, а на губах — улыбка, которую в последний раз я увидел несколько месяцев спустя на белоснежной подушке, почти не примятой под невесомой маленькой головой, — этот самый Ронкони показал мне такой рисунок:

Среди полуразрушенных колонн прогуливались древние римляне и летали бабочки.
— Это древние или современные бабочки? — шутливо спросил я его.
— Бабочки всегда одни и те же, — серьезно ответил Ронкони.
— А эти дети, которые там играют, почему они не одеты как древние римляне?
Он окинул меня взглядом, в котором читалось: «Ты же учитель, ну как ты можешь не понимать таких простых вещей?»
Ронкони был явно расстроен. Он любил меня, ставил выше себя и был уверен, что я все понимаю, в том числе и детские мысли, которые бывают такими взрослыми и глубокими, что никто их понять не может.
— Дети, — сказал он мне, — всегда одинаковые. Они всегда играют. И древнеримские дети были такими же, как мы: они играли с мячом, с обручем и совсем не знали, что они древнеримские.
Я не нашелся, что ответить.
Мне пришли на ум стихи одного поэта — о том, как в Риме на раскопках древнего храма нашли детские захоронения. И поэт в своем стихотворении спрашивает у умерших детей:
— Что вы делали, когда были живы? О чем вы думали тогда? И Рим, каким был Рим?
— Что мы можем об этом знать? — отвечают они. — Мы ведь были детьми, мы играли, бегали за бабочками, как все дети. Что еще тебе сказать? Я хорошо помню свою куклу. А я — мячик и обруч…
Так Ронкони, ученик третьего класса, сам того не подозревая, почувствовал то же, что чувствовал поэт. И выразил это свое чувство не словами, а карандашами.
Чувство, совсем не пришедшееся по душе старому и важному инспектору в очках в золотой оправе, который как-то зашел ко мне в класс. Он строго раскритиковал мою манеру обучать, а вернее, не обучать рисованию и более всего возмутился, когда увидел древнеримских детей, играющих с обручем и бегающих за бабочками.
— Это что за легкомыслие, что за распущенность такая!
Я робко спросил его, чем, по его мнению, играли дети Древнего Рима.
— Они не играли вовсе! — отрезал он. Потом, чуть подумав, уже другим тоном добавил:
— Ну, или играли… но отважно, не смеясь, и на головах у них должны были быть при этом маленькие шлемы, а в руках мечи.
— Но бабочки… — начал было я…
— Никаких бабочек в Древнем Риме не было и быть не могло!
В классе повисла глубокая тишина.
На лицах кое-кого из мальчишек я увидел сильное желание поднять руку и спросить, в каком году изобрели бабочек.
— Синьор учитель, — инспектор повернулся ко мне, — вы совершенно не умеете преподавать рисование. То, что рисуют ваши ученики, — это какие-то каракули!
С этими словами он взял наугад один рисунок.
— Это чей? — спросил он. — Кто из вас Мартинелли?
Мартинелли, дрожа, встал из-за парты и, онемев от испуга, моргнул глазами, давая понять, что он и есть Мартинелли.
Потрясая рисунком, на котором был изображен зимний пейзаж с заснеженными горами и крышами и как по волшебству выросшим посреди площади деревом, усыпанным разноцветными цветами, инспектор стал кричать:
— Разве зимой, под снегом, цветут деревья? Когда цветут деревья, а?