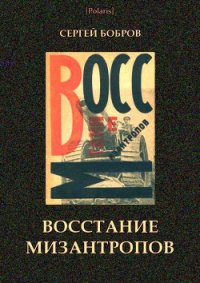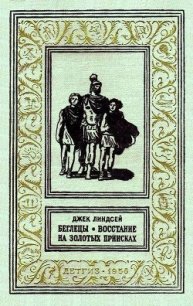Восстание элит и предательство демократии - Лэш Кристофер (е книги TXT) 📗
Эти рассуждения, смутно напоминающие пренебрежительные реплики Уолтера Липпмана в адрес общественного мнения в его дискуссии с Дьюи, также предвосхищали позицию, занятую Алланом Блумом в книге Закрытие американского ума, в которой он превозносит университет как некое место, где высоколобые ученые могут беседовать друг с другом и с лучшими из своих студентов на герметическом языке, намеренно измысленном для того, чтобы сбивать со следу непосвященных, о вечных философских вопросах, никогда не представлявших более чем проходного интереса для широкой публики. Для многих честных интеллектуалов культурная революция конца 60-х дискредитировала само понятие ангажированного, апеллирующего к общественности научного исследования. Понятие публичности стало неотделимо от такого явления, как "работа на публику". При этих обстоятельствах решение Риффа меньше писать, печататься в университетской прессе и академических журналах и посвятить свои силы "укреплению нашего ученого круга" становится понятным, если и не оправданным. Однако результат оказался, по крайней мере в случае Риффа, обратным тому, что можно было ожидать: преувеличением именно элементов театральности и герой-ствования в слоге Риффа. Его письмо сделалось не более академическим, а более пифическим, тем более "пророчествующим", чем более оно остерегало против выступления в роли пророка. В своих ранних работах Рифф говорит с силой и убеждением, но всегда прямым, искренним, лишенным аффектации тоном. Теперь он предпочитает изъясняться, главным образом, загадочными афоризмами, иносказательностями, парадоксами. Сам он именует этот характерный для него тон "осторожным". Он делает слишком много сносок –не педантичных библиографических примечаний, конечно, но пространных пояснительных околичностей, выдающих, кажется, нежелание разговаривать с читателем напрямик. Рифф изменяет стиль своего письма в сторону меньшей доступности и в то же время усиления его провозвещательности и апокалиптичности, хотя сам постоянно и предостерегает себя от совершения именно этих ошибок.
Теперь, когда арена публичной жизни, как кажется, разлагается под воздействием агрессивного маркетинга идей, решение считать себя скорее учителем, нежели публичным интеллектуалом, приняли, пусть и с неохотой, и многие другие, помимо Риффа. В случае с Риффом, как и в других случаях, оно кажется связанным с новым акцентом на университете как "сакральном заведении", где накапливается и "осторожно" передается "знание для избранных". Такой взгляд на жизнь ума поражает меня своей несовместимостью с замечанием Риффа о том, что худший способ защищать культуру – это творить из нее кумира. Он также несовместим с его утверждением, что современные интеллектуалы не должны стремиться стать преемниками духовенства. Эта позиция выражается в тенденции, направленной на то, чтобы делать религию из культуры, что осуждалось Риффом в его ранних работах, в частности – в великолепной главе о религии в книге Фрейд: ум моралиста.
Нападки Фрейда на религию, подчеркивал Рифф в этой книге, основывались на "неправильном понимании существа религии как социального". Подобно Канту, Фрейд видел в религии "важничанье от имени священного", через что моральному долгу придавался статус божественных заповедей и, таким образом, увековечивались "законы культуры". Но религия – это не культура, и лучшие толкователи христианства, как отмечал Рифф, всегда различали "между верой и теми установлениями и установками, посредством которых она передается в каждый данный момент". Так, Кьеркегор "поставил диагноз болезни 19-го века" как "смешение религии и культуры", Христа и христианства. Фрейд, с другой стороны, "полагал, что религия –это конформизм", словно ее единственной функцией было гарантирование общественного порядка. Для него "христианство всегда означало церковь, социальный институт подавления" – не традицию откровения, которая разоблачала продажность церкви и обвиняла христиан в том, что Божий промысел они уравнивали с людским умыслом. Фрейд, по мнению Риффа, упускал из виду различие между "пророческим обличением" и "гражданским повиновением".
В работе Будущее одной иллюзии Фрейд в форме воображаемого диалога разбирал вопрос, может ли общество прожить без религии. Его собеседник подчеркивает "прикладную" ценность религии для утверждения морали. Он допускает, что религия – это "мистификация", но отстаивает ее необходимость "для защиты культуры". Сам Фрейд считал, что сейчас люди могут обойтись без религии, но здесь важно то, что сам вопрос – по мнению Риффа, неправильный — им ставится именно таким образом. Вопрос состоит не в том, нужна ли религия, а в том, истинна ли она. Однако со времени выхода Собратьев-учителей Рифф, защищая религию – религию культуры, коли на то пошло, – как необходимый источник общественного порядка, начинает все более и более звучать как собеседник Фрейда.
От высокого звания университетского преподавателя не убудет, если мы уясним себе, что университет — это не сакральное заведение и что Бог, а не культура, есть единственный подобающий предмет безусловного почитания и удивления. Культура вполне может зависеть от религии (вопреки противоположному взгляду Фрейда), но религия не имеет смысла, если на нее просто смотреть как на подпорку для культуры. Если только она не зиждется на бескорыстной любви ко всему сущему, религиозная вера служит лишь тому, чтобы облекать человеческие замыслы в маски святости. Вот почему честный атеист всегда предпочтительней христианина от культуры. Фрейд и Макс Вебер, образцы для подражания и учителя Риффа, достойны восхищения в их решимости жить, не имея этой особой формы утешения – иллюзии, что человеческие замыслы совпадают с Божественным промыслом. Эта самая иллюзия всегда, однако, была главной мишенью религиозных пророчеств. И как раз эта их общая враждебность к ханжеским культурным притязаниям и обнаруживает родство между традицией пророков и достойной подражания традицией таких светских интеллектуалов, как Вебер и Фрейд. Рифф также принадлежит этой традиции, за исключением тех моментов, когда забывается и слишком прямо отождествляет смысл сакрального с официальными учреждениями и "запрещениями", которые они вменяют. Нам, видит Бог, нужны учреждения и запрещения, но сами по себе они не сакральны. Ничего, кроме путаницы – что Лютер и Кальвин подчеркивали давным-давно и на что сам Рифф указывал по многим поводам, – не выйдет из приравнивания веры к повиновению моральным законам, созданным человечеством для управления самим собой.
ГЛАВА XIII ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУША ПРИ СЕКУЛЯРИЗМЕ
Это заглавие восходит к названию небольшой книжки Оскара Уайльда, Человеческая душа при социализме, изданной чуть больше ста лет назад, в феврале 1891 года. Намерением Уайльда было, как всегда, ослепить своим блеском и шокировать читателей, и это его название служило типичным в духе Уайльда афронтом почтеннейшей публике. Оно связывало понятие религиозного происхождения, душу, с агрессивно светской идеологией, во многом почерпнувшей свои воззрения из знаменитого осуждения Марксом религии как опиума для народа.
Это был, пожалуй, единственный марксистский афоризм, под которым Уайльд подписался бы без оговорок. Едва ли он был правоверным социалистом. "Мы все более-менее социалисты сегодня" –сказал он одному интервьюеру в 1894 году, но его собственный вариант социалистического символа веры прославлял художника, а не сына труда с мозолистыми руками, и почитал к тому же социализм лучшим упованием индивидуализма нового рода — неким "новым эллинизмом", как он отзывался о нем на последних страницах своего не-коммунистического манифеста. Правоверные марксисты осмеяли его социализм эстетического толка, но последним-таки смеялся Уайльд. Его религия искусства пережила крах марксистской утопии. Из всех светских религий, возникших в 19-м веке, эта оказалась самой долговечной: по-своему, и самой соблазнительной, и самой много-смысленной.