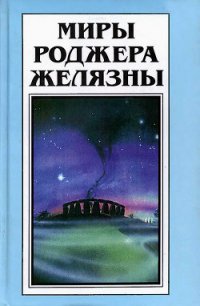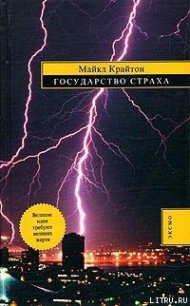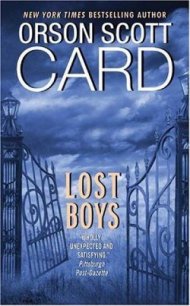Страх. История политической идеи - Кори Робин (читать книги регистрация .TXT) 📗
При первом взгляде «Эйхман в Иерусалиме», казалось, подтверждал то, что Арендт писала об идеологии в «Истоках». Эйхман, писала она, был «идеалистом», который, по его собственным словам, «жил за свою идею… готовый пожертвовать за идею всем и в особенности всеми», включая свою семью и себя. Это предположение Арендт делала для того, чтобы провести контраст между идеалистом и «бизнесменом», не ожидающим ничего грандиозного и даже не такой высокой карьеры, которую себе воображал Эйхман. Иначе говоря, идеология была в меньшей степени значительной из-за пожертвования личностью (идеолог все еще сохранял «свои личные чувства и эмоции»), чем из-за величия амбиций ее приверженцев 91. Идеолог старался сделать что-то значительное и искал идеи (например, уничтожение евреев), позволившие бы осуществить это желание. В отличие от идеолога в «Истоках», видевшего величие в безличных подавивших его силах, теоретик в «Эйхмане» видел его в создаваемом им мире, который будет вспоминать его дела с почтением и благодарностью. Никто, утверждала Арендт, не понял этот мотив так хорошо, как Гиммлер. Речь за речью Гиммлер убеждал своих последователей в великой задаче, которую им предстояло выполнить. Если работа по уничтожению евреев была «труднопереносимой», заявлял он, в СС смогут воодушевить и на такую мысль, сказав, что это было «историческим, грандиозным и уникальным» и именно этим они занимались 92. Это была не просто задача, которая привлекала СС; это было также фактом того, что именно они должны будут это осуществить.
Такие слова особенно ярко звучали для такого хвастуна, как Эйхман. (Столь кричащими были амбиции Эйхмана, что Арендт удивлялась тому, как он смог скрываться после войны так долго 93.) Эйхман хвалился потому, что старался возвысить себя над теми, кто играл по правилам 94. Таким образом, он страдал от обычных пороков личности, которая, как Арендт заявила в «Истоках», была уничтожена массовым обществом и тотальным террором. За высокопарными речами идеологии стоял человек с прискорбным, хотя и вряд ли необычным пристрастием к самовозвеличиванию. Как и в «Истоках», Арендт напрямую связывала идеологию и движение, но здесь это было не безличным движением природы или истории, но восходящей мобильностью карьериста.
«Из скучной жизни без значения и развития ветер занес его в Историю, как он ее понимал, а именно, в Движение, всегда безостановочное и в котором кто-то, как он сам, бывший неудачником в глазах его социального класса, его семьи и в его собственных глазах, мог начать все с самого начала и даже сделать карьеру» 95. В «Эйхмане» Арендт вернула идеологию на землю, к личности с ее привычными желаниями, пороками и интересами. Возможно, поэтому Арендт особо выделила, что великие идеологические заявления Гиммлера всегда делались под конец года, по-видимому, вместе с рождественской премией 96.
В «Истоках» Арендт утверждала, что идеология была заменой недостижимого пока мира, утешением одиноких людей, более ни во что не верующих, включая свидетельства своих собственных чувств. Однако в «Эйхмане» Арендт изобразила нацизм как идеологию отступления и оправдания, предполагавшую, что мир во всем его уродстве и личность во всей своей сущности все еще существуют. Его цель состояла в приспособлении личности к этой уродливой реальности. Большинство нацистов, утверждала Арендт, имели «врожденное отвращение к преступлению» 97. Целью идеологии тогда являлось преодоление этого отвращения путем превращения массового убийства в положительный моральный долг. Убийство евреев требовало того же отказа поддаться искушению — в данном случае желанию не убивать, ухищрений, не требовавшихся в другую эпоху. Убийство всех евреев без исключения даже носило санкцию категорического императива Канта, о котором Эйхман имел довольно связное, хотя и примитивное представление. Таким образом, убить нескольких евреев из садизма или ярости было менее достойно, чем убить всех евреев без эмоций или следуя одной из них, т. е. самой законной и универсальной из причин 98.
В то время как фанатичное убийство евреев напоминало внутреннее, духовное самоотречение, описанное Арендт в «Истоках», оно было совсем другого сорта, как ничто другое напоминавшее христианский идеал добродетельности, как бы злонамеренно ни определенное ради него самого же. Столь убедительным, если все перевернуть, был этот моральный мир, что кто-то похожий на Эйхмана, по словам Арендт, мог бы совершить «свои преступления при обстоятельствах, которые [сделали] бы почти невозможным осознание или ощущение того, что он поступает неправильно» 99.
Но по большей части, как это осознала Арендт, моральные преобразования нацистов не были успешными: партийные функционеры все еще ощущали, пусть и смутно, что они творили зло. Если бы нацисты не обладали неким представлением о том, что они поступают плохо, прибегали ли бы они к эвфемистическим «языковым правилам», по которым ничто — ни убийство, ни концентрационные лагеря, ни газовые камеры — не могло быть названо своим именем? Одной из целей такой лингвистической путаницы, несомненно, было желание смутить иностранцев и скрыть преступления; нацисты беспокоились о плохой рекламе и опасались, что в случае поражения в войне их будут судить явно не в позитивном свете. Но нацисты использовали эти слова даже среди своих. Окончательное решение требовало обширной бюрократии с офисами, разбросанными по всей оккупированной Европе, и далеко не каждый служащий был надежным пехотинцем. Нацисты прибегали к кодовым словам, так как они не могли быть уверены в том, что их собственные чины примут ужас того, что они делали; эвфемизм был «огромной помощью в деле поддержания порядка и здравомыслия» 100. Аргументация Арендт предполагала, что целью идеологии было отвлечь внимание от (или оправдание) морального ужаса, чтобы его палачи могли продолжать свой кровавый бизнес.
Тем, что сделало нацистскую идеологию такой убедительной для людей вроде Эйхмана, заключает Арендт, был простой факт, что столь многие из уважаемых им людей, казалось, верили в нее. «Его совесть была действительно спокойна, когда он видел пыл и усердие, с которым „хорошее общество“ повсюду реагировало так же, как и он. Ему не нужно было „приближать свои уши к голосу совести…“ не потому, что ее у него не было, но потому что его совесть говорила „респектабельным голосом“, голосами респектабельного общества вокруг него. Эйхман искренне верил в авторитет лучших людей общества, в то, что их мнения были достойны уважения и подражания. А еще у них была власть, так что все это заставило его присоединиться и к верованиям, сопровождавшим эту власть. Эти парные элементы в идеологическом структурировании Эйхмана — искреннее и инструментальное, мораль и карьеризм — были нераздельны, поскольку в глазах Эйхмана успех был нравственным благом, стандартом, по которому оценивалось достоинство людей. Он заявлял о Гитлере: „[Он] мог быть в корне неправ, но одна вещь бесспорна: этот человек был способен подняться от ефрейтора немецкой армии до фюрера почти восьмидесятимиллионного народа… Сам его успех доказал мне, что я должен подчиниться этому человеку“» 102.
Открыв роль карьеризма и заново истолковав идеологию, Арендт, наконец, пришла к переосмыслению цели и политики тотального террора. В «Истоках», как мы видим, целью тотального террора было уничтожение человеческой свободы и индивидуальности, освобождение движения природы или истории от груза личности. Тотальный террор был самоцелью. Однако в «Эйхмане» Арендт утверждает, что тотальный террор был не самоцелью, а инструментом геноцида. Как она пишет, нацизм был «предприятием, открыто намеревавшимся навсегда стереть некоторые „расы“ с лица земли». Эйхман «поддерживал и приводил в жизнь режим нежелания делить землю с евреями и рядом других народов». В то время как эти жесткие заявления столь очевидны сегодня, что близки к банальности, они означали вновь открытое Арендт признание того, что нацизм был «атакой на человеческое разнообразие как таковое», атакой на неоспоримую множественность народов, а не на личностей, на людей, понимаемых как членов расы, а не деятелей и индивидов 103.