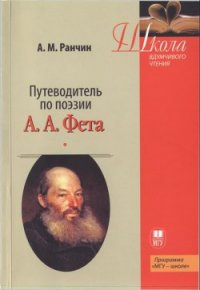«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Сам поэт прямо указывает лишь на один источник образа призрака, набивший оскомину каждому жителю советской «державы дикой»: «Извини за вторженье. / Сочти появление за / возвращенье цитаты в ряды „Манифеста“». Это «Манифест коммунистической партии», написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом и открывающийся словами о призраке коммунизма, который бродит по Европе. Но призрак «Литовского ноктюрна» «вышел» не только из рядов «Манифеста». Он закрался в стихи Бродского также и со страниц книги Афанасия Фета «Вечерние огни». Призрак в «Литовском ноктюрне» появляется на улицах Каунаса поздним вечером и остается до полночного крика петуха. В стихотворении «Светоч» из «Вечерних огней» говорится о ночном призраке, рожденном ночными страхами лирического героя и игрой теней и пламени лесного костра:
Правда, сходство стихотворений Фета и Бродского — внешнее: в обоих упоминаются ночной призрак и огонь. И в «Литовском ноктюрне» и в «Светоче» говорится о призраке, рожденном воображением. Совпадение лишь четче высвечивает отличия этих текстов: Фет подразумевает силу поэтического горения, Бродский пишет о коптящем, слабо светящем поэте. Но о соотнесенности с «Вечерними огнями», ключевые образы которых — поздний вечер, ночь, огонь и свет, — напоминает тема вечера и наступающей ночи, выраженная уже в заглавии [395] «Литовского ноктюрна» и в строке, открывающей третью строфу: «Поздний вечер в Литве» (II; 322), — и повторяющиеся образы, связанные с огнем и светом. Это и «запятые / свечек в скобках ладоней» (II; 322), и звезда, которая «в захолустье / светит ярче» (II; 323), и фонарь, и «коптящий окно изнутри» поэт-адресат. Инвариантный мотив фетовских «Вечерних огней» — власть и сила поэзии, побеждающие или охраняющие от царящей вокруг «ночи»:
Образ свечек-запятых из третьей строфы «Литовского ноктюрна» воссоздает традиционное уподобление поэзии свету, огню и даже придает слову и графическому знаку сакральный, религиозный смысл. В ранней поэме Бродского «Исаак и Авраам» свече уподоблялся сам поэт. Свеча как атрибут лирического героя — центральный образ стихотворения «Моя свеча, бросая тусклый свет…»:
Отказываясь от пушкинской версии романтического мифа о поэте-пророке, Бродский в «Литовском ноктюрне» хранит приверженность идее о священной роли Слова. Поэтому интерпретация образа коптящего поэта должна учитывать весь текст стихотворения. Ирония, заключенная в этом образе, не отрицает второго, серьезного значения: поэтическое слово хотя и не способно «жечь сердца людей», как речи пророка, но тоже может быть названо «огнем».
В стихотворении «Письмо генералу Z» (1968) реминисценция из пушкинского «Пророка» оказывается в совершенно инородном («милитаристском») контексте, что придает ей абсурдный смысл: «Снайпер, томясь от духовной жажды, / то ли приказ, то ль письмо жены, / сидя на ветке, читает дважды» (II; 87). Иронические коннотации пушкинской формулы подчеркивает рифма «жажды — дважды»: метафора «жажда», имеющая возвышенный духовный смысл, рифмуется с прозаически точным исчислением «дважды». Романтический миф о поэте-пророке разрушен, вывернут наизнанку [397].
Реминисценция из «Пророка» содержится также в стихотворении «Северная почта» (1964): «Не обессудь / за то, что в этой подлинной пустыне, / по плоскости прокладывая путь, / я пользуюсь альтиметром гордыни» (II; 382). Метафорический образ пушкинской «пустыни мрачной» переводится Бродским в предметный, реальный план, и это подчеркнуто эпитетом «подлинная». Реминисценция из «Пророка» мотивирована сходством судеб двух поэтов: и Пушкин, и Бродский пишут свои стихотворения в ссылке, в северных деревнях (в Михайловском и в Норенском). Но ссылка Бродского тяжелее, поэтому местность, в которой он оказался, — это и есть «подлинная пустыня». В «Северной почте» цитируются также строки из «Евгения Онегина» «Пчела за данью полевой / Летит из кельи восковой» (V; 121), которым неожиданно придается печальный и мрачный оттенок: «Вот так, как медоносная пчела, / жужжащая меж сосен безутешное…>» (I; 382).
К пушкинскому «Пророку» восходит серафим в стихотворении «Муха» (1985): «Увы, с собой их [обои и, шире, вещи. — А.Р.] узор насиженный ты взять не в силах, / чтоб ошарашить серафимов хилых / там, в эмпиреях, где царит молитва, / идеей ритма // и повторяемости, с их колокольни / — бессмысленной, берущей корни / в отчаяньи, им — насекомым / туч — незнакомым» (III; 106). Бродский, оспаривая Пушкина, и здесь утверждает невозможность встречи человека с божественными силами и иронизирует над ангелом — Господним посланником, называя серафимов «хилыми». Эпитет «хилые», возможно, навеян поэзией О. Э. Мандельштама. У Мандельштама он отнесен также к небесному существу, к птице — ласточке: «Научи меня, ласточка хилая, разучившаяся летать <…>» («Стихи о неизвестном солдате») [398]. Серафимы принадлежат инобытию, потустороннему божественному миру. Мандельштамовская ласточка связана с миром мертвых [399].
Неожиданная вариация образа угля, пылающего огнем, символизирующего в «Пророке» огненное слово поэта, содержится в стихотворении Бродского «Эклога 4-я (зимняя)» (1980): «А потом все стихает. Только горячий уголь / тлеет в серой золе рассвета» (III, 15). Уголь — одновременно и метафора утренней зари, основанная на созвучии слов «уголь» и «утро». Но это также и цитата из «Пророка». Пушкин пишет о преображающем огне вдохновения, Бродский — об угасании огня: тлеет в золе лишь один-единственный уголь. Этот образ Бродского также напоминает о строках из пушкинского стихотворения «Осень»: «Но гаснет краткий день, и в камельке забытом / Огонь опять горит — то яркий свет лиет, / То тлеет медленно — а я пред ним читаю / Иль думы долгие в душе моей питаю» (III; 248). За этими стихами в «Осени» следует описание вдохновенного состояния лирического героя-поэта: «Я забываю мир — и в сладкой тишине / Я сладко усыплен моим воображеньем, / И пробуждается поэзия во мне: / Душа стесняется лирическим волненьем <…>» (III; 248). Созерцание огня в камине погружает пушкинского героя в стихию поэзии, рождает «огонь» вдохновения в его душе. Бродский в «Эклоге 4-й (зимней)», в противоположность автору «Пророка» и «Осени», создает парадоксальный образ одновременно угасающего и разгорающегося огня-угля. Уголь тлеет в серой золе. Серая зола — это останки других, сгоревших дотла углей. Останки былого огня. Это описание напоминает золу в погасшем камине. Такова метафорическая сторона образа. Но его денотат в вещественном, предметном мире — серое рассветное небо, не угасающее, но, наоборот, «загорающееся». Единство этому внутренне противоречивому образу из «Эклоги 4-й (зимней)» придается благодаря еще одному переносному значению. Горячий уголь соотносится с пушкинским «углем, пылающим огнем» и обозначает слабый, гаснущий, но негасимый огонек поэтического слова.