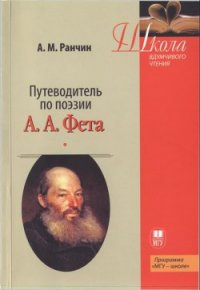«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Гортань является метонимией лирического «Я»: «гортань… того… благодарит судьбу» («Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974) [II; 338]) — затрудненная, косноязычная речь в духе гоголевского Акакия Акакиевича в этой строке указывает на инвариантный мотив слова, застревающего в горле. Мотивы затрудненной речи (замерзающего в гортани слова) и разрыва выражены также в стихотворении «Север крошит металл, но щадит стекло…» из цикла «Часть речи» (1975–1976): «И в гортани моей, где положен смех, / или речь, или горячий чай, / все отчетливей раздается снег / и чернеет, что твой Седов, „прощай“» (II; 398). Он варьируется в более позднем стихотворении «Первый день нечетного года. Колокола…»: «Я валяюсь в пустой, сырой, / желтой комнате, заливая в себя Бертани. Эта вещь, согреваясь в моей гортани, / произносит в конце концов: „Закрой окно“» (III; 79). Закрывание окна означает отказ от контакта с внешним миром. Напомню также образ рта, изрекающего слова благодарности, из стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980): «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность» (III; 7). О «горловом напоре» голоса говорится в стихотворении «Похож на голос головной убор» (1960-е гг.) (II; 199). Рифма «глаголом — горлом» из «Разговора с небожителем» относится к повторяющимся, ключевым рифмам Бродского. Она встречается в написанном, возможно, ранее стихотворении «Памяти Т. Б.» (1968): «Имя твое расстается с горлом / сдавленным. Пользуясь впредь глаголом, / созданным смертью, <…> сам я считать не начну едва ли, / будто тебя „умерла“ и звали» (II; 83).
Образ замерзающей гортани у Бродского ассоциируется с болью (как и в «Пророке» Пушкина), но также и с самоубийством, с перерезанным горлом — по-видимому, под воздействием строки Владимира Маяковского «горло бредит бритвою» (поэма «Человек») [383]. Так, в стихотворении «В окрестностях Александрии» (1982) разрезанное горло — метафора реки: «Помесь лезвия и сырой гортани, не произнося ни звука, / речная поблескивает излука, / подернутая ледяной корою» (III; 57). Образ перегрызаемого горла содержится в стихотворении «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою» (1980): «простая лиса, перегрызая горло, / не разбирает, где кровь, где тенор» (III; 20) и в подтексте поэмы «Зофья» (1962) (III; 183): «Что будет поразительней для глаз, / чем чувства, настигающие нас / с намереньем до горла нас достать?» (I; 183). Эти строки восходят также к пастернаковскому образу «строчки <…> / Нахлынут горлом и убьют» («О, знал бы я, что так бывает…») [384].
Слово («глагол») в «Разговоре с небожителем», в отличие от «глагола» в пушкинском «Пророке», наделено вещественными, материальными признаками: «глаголом» можно касаться «места». Овеществление слова, приравнивание смысла к означаемому — инвариантный мотив поэзии Бродского [385]. В «Разговоре с небожителем» этот прием приобретает дополнительный смысл испытания существования Бога сомневающимся человеком. Лирический герой не может коснуться «глаголом» «никого вокруг». Эти слова отнесены к людям, но для героя стихотворения невозможна и встреча с Богом [386]. Тактильная метафора «глаголом коснуться» приобретает дополнительный смысл, указывая на евангельский эпизод уверения апостола Фомы, который, чтобы убедиться в воскресении Христа, вложил персты в его раны [387].
Уподобление изрекаемого слова — «глагола» прикосновению Фомы (точнее, невозможности такого прикосновения) содержится также в «Литовском ноктюрне» (1973[74?] — 1983) [388]: «чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы — / и, нащупав язык, на манер серафима / переправить глагол» (II; 325). По словам Т. Венцлова, «алкоголизм — <…> одна из сквозных тем „Литовского ноктюрна“. Она проводится в юмористически-кощунственном ключе. Религиозные мотивы (рана, в которую вложил персты небесный покровитель адресата [т. е. самого Томаса Венцлова, к которому обращено стихотворение. — А.Р.], апостол Фома <…>), преломленные в культурных контекстах (<…> „Пророк“ Пушкина), преподносятся — как часто бывает у Бродского — шокирующим образом» [389]. Действительно, жест, описанный в стихотворении, соотносит изрекаемое слово с насильственно вызванной рвотой. Замена этими строками пушкинских стихов о серафиме основана на фонетическом тождестве слова «вырвать» — «выдрать», «извлечь резким движением» и «вырвать» — «стошнить». Серафим в пушкинском стихотворении «вырвал грешный <…> язык» герою, призванному к пророческому служению, вложив «жало мудрыя змеи в уста замершие». Бродский подразумевает рвоту. Но ключевое слово «вырвать» в этой словесной игре, в кощунственном переиначивании библейского образа из пушкинского «Пророка» Бродский оставляет в подтексте. Оно должно быть разыскано и воссоздано читателем. На него указывает близкое по звуковому облику слово «рот». Оно ассоциируется, в отличие от церковнославянизма «уста» в пушкинском «Пророке», не с духовной, но с физической природой человека. Подобного рода словесная игра — отличительная черта поэтики автора «Разговора с небожителем» и «Литовского ноктюрна».
В стихотворении Пушкина так же, как и в «Литовском ноктюрне», преображение героя серафимом — почти физически ощутимое мучение. Но телесное подчинено духовному. Вот как об этом пишет В. Э. Вацуро:
«Поэтическая тема страдания зиждется на точных, конкретно-чувственных зрительных деталях. „Кровавая десница“ серафима — это уже не бесплотная рука с „легкими, как сон“, перстами. Замершие уста — лишенные языка, речи и обездвиженные жестокой болью. Трепетное сердце — трепещущее, еще живое; отверстая грудь — разрубленная мечом… Картина, если представить ее зрительно, будет почти отталкивающей.
Но Пушкину нигде не изменяет его безошибочный художественный вкус. Он все время сохраняет дистанцию между словесным описанием и зрительным представлением, не допуская, чтобы картина сделалась прямо изобразительной. И здесь он пользуется <…> абстрактностью и многозначностью „высокого“ старославянского слова <…>. „Трепетное сердце“ — это не столько трепещущая живая плоть, сколько „пугливое“ сердце (как в сочетании „трепетная лань“). И „отверстая грудь“ (открытая в глубину) не вызывает прямого зрительного представления о ране — оно как бы подсказано, дано косвенно, намеком. Слова играют своими скрытыми, вторичными значениями, оттенками смысла — то более общими, то более конкретными» [390].
Автор «Литовского ноктюрна», упоминая о пальцах, вложенных в рот, отказывается от церковнославянских слов с присущим им отвлеченным значением и придает этому жесту почти натуралистическую точность.
Но семантика образа пальцев, вложенных в рот, не ограничивается пародийно-кощунственным значением. В поэтическом коде Бродского гортань — метонимия лирического «Я» и орудие, орган слова. Натуралистически точное описание сохраняет ассоциативную связь «уста — глагол (слово поэта)», заданную Пушкинским «Пророком». Но если у Пушкина поэтический дар и бремя поэта-пророка вручены серафимом, то в «Литовском ноктюрне» образ вестника-серафима отсутствует, и лирический герой сам и шутливо, и серьезно уподобляет себя не только герою «Пророка», но и божественному посланцу. Эта трансформация пушкинского сюжета о пророке объясняется воздействием присущих поэзии Бродского мотивов непреодолимого разрыва между небесным и земным миром, невозможности для лирического героя войти в небесное царство [391].