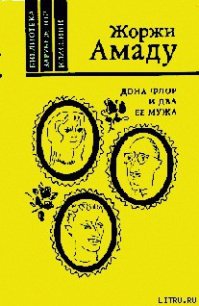«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа - Кузнецов Феликс Феодосьевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
«Биография деда Гришаки претерпела некоторые изменения, — пишет он, — с издания 1956 года он более не “односум” (то есть не однополчанин) деда Григория — Прокофия Мелехова; в связи с этим подверглись правке и сведения о боевой карьере последнего — в первой главе первой части дед Григория — участник уже не последней турецкой кампании, а предпоследней. Убрано и второе упоминание о совместной воинской службе деда Гришаки и Прокофия. Правка в данном случае понятная — если об этом не говорится в первый раз, зачем повторять во второй? Но еще любопытнее то, что Шолохов заметил повторения в тексте девятнадцатой главы. Заметил, но смысла этих повторений не понял!»
В результате «в текст главы опять вкрался черновик»38.
В действительности ничего не понял Бар-Селла. Шолохов внес изменения в текст, связанный с Прокофием Мелеховым и дедом Гришакой, в связи со своими уточнениями в генеалогическом древе Мелеховых в ходе работы над романом. Это и понятно: писатель правил текст своего романа, не подозревая, что впоследствии он будет объявлен одним из «антишолоховедов» «черновиком», сочиненным неким Краснушкиным.
Новелла «Беглец» — еще одна в ряду тех, где доказывается, будто, «переписывая» текст В. Краснушкина, Шолохов не знал, «что у автора было черновиком, а что беловиком», в результате чего черновики в «Тихом Доне» якобы «напечатаны заодно с беловиками».
Бар-Селла приводит абзац из 2-й главы четвертой части романа, где Бунчук, дезертировавший из полка, в котором он служил вместе с Листницким, оказывается в «большом торговом местечке, лежавшем в прифронтовой полосе», где у него была назначена встреча на тайной явке. Шолохов пишет: «Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели: день лежал, зарывшись в стодоле в мякину.
В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели» (2, 24—25).
Что же смущает в этом ясном, логичном и точном тексте Бар-Селлу? Большевик Бунчук ночью, минуя патрули и другие подстерегающие его опасности, пробирается на явку к товарищу по большевистской партии. Писатель намеренно нагнетает это чувство опасности: Бунчук уже «едва не наткнулся на патруль», да к тому же он знает, что в этом местечке еще и «база корпуса», «какие-то части», и потому, — усиливает напряжение Шолохов, — «пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели».
Но Бар-Селла не слышит (не хочет слышать?) этого ритма шолоховской прозы. Он механически рассекает приведенный текст, логику авторской мысли, и заявляет, будто второй абзац этого отрывка дублирует заключительную часть первого, что это — два варианта одного и того же текста39.
На этом основании он считает второй абзац «черновиком».
Но приведенный выше текст никаких оснований для подобного заключения не дает. Более того — Бар-Селла даже не подумал о том, что «ярый антибольшевик» Краснушкин-Севский никак не годится на роль автора текста, где в столь положительных интонациях рассказывается о встрече большевика Бунчука с его единомышленниками.
Как видим, фрагменты, «выдернутые» Бар-Селлой из контекста романа и выдаваемые им за некие «черновики» из «прототекста» В. Краснушкина, таковыми ни в коей мере не являются.
Мифические следы этого несуществующего «прототекста» Краснушкина Бар-Селла пытается отыскать также в «дневнике» студента Тимофея, которому в «Текстологии преступления» он посвятил две новеллы: «Время жить и время умирать» и «Два студента». Их читаешь, как запутанный детектив.
Начнем с новеллы «Время жить и время умирать».
Бар-Селла приводит в ней следующую выдержку из «Дневника» студента:
«24 августа. <...>
Прошел первый санитарный поезд. На остановке из вагона выскочил молодой солдат. Повязка на лице. Разговорились. Ранило картечью. Доволен ужасно, что едва ли придется служить... Смеется» (1, 319).
Этот молодой солдат, по его мнению, — не больше, не меньше, как Григорий Мелехов. В доказательство Бар-Селла предлагает сравнить с приведенной записью следующий отрывок из двадцать первой главы той же третьей части: «Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающе сонлив, от фонаря до половины лавки желтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность, и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес: ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза — все дальше фронт...
Тихую, умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз огнем, выжимала под повязкой невольные слезы. <...>
После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем» (Выделено Бар-Селлой. — Ф. К.) (1, 376—377).
Бар-Селла находит в этих двух отрывках совпадения: «ранение в глаз, повязка, санитарный поезд...»40. Но главное совпадение — что «Григорий Мелехов ранен 21 августа», а запись в дневнике, где студент-вольноопределяющийся встречает на полустанке раненого в глаз солдата с повязкой на голове, сделана... 24 августа. Значит? Солдат с повязкой на глазу в рукописи Севского (Краснушкина) — это и есть Григорий Мелехов. И это, якобы, подтверждает авторство Севского, поскольку совпадения в двух приведенных отрывках, на взгляд Бар-Селлы, ни больше, ни меньше, как «след нереализованного фабульного узла (или целой фабульной линии), предполагавшего встречу автора дневника и Григория Мелехова на одной из станций 24 августа 1914 года»41.
И это называется «текстологией»!
В следующей новелле — «Два студента» — подобные «фабульные узлы» завязываются еще круче.
В «Дневнике» студент Тимофей, оказавшись на первомайском митинге в 1914 году, говорит замахнувшемуся на него плетью казаку: «...Я сам казак Каменской станицы (подчеркнуто Б.-С. — Ф. К.) и так могу его помести, что чертям станет тошно» (1, 312).
Но и другой студент — столкнувшийся на демонстрации в Петербурге с Христоней, говорит: «Ты, станишник, не сумневайся, я сам Каменской станицы рожак» (1, 162).
Упоминания там и тут станицы Каменской для Бар-Селлы достаточно, чтобы сделать вывод: «...перед нами еще один след, указывающий на эволюцию романной фабулы, а именно: на одном из этапов работы предполагалось столкнуть автора “Дневника” с одним из персонажей (Христоней)»42.
Но поскольку Христоня демобилизовался со срочной службы еще до начала повествования, а потому не имел возможности разгонять маевку в 1914 году, Бар-Селла смело сдвигает действие романа вспять, чтобы «дураковатый» казак Христоня, находясь на действительной службе, мог все-таки разогнать маевку, в которой участвовал его земляк, студент Тимофей.
Для этого оказывается достаточно одной фразы из «Дневника» студента — «На углу Садово-Триумфальной мне улыбнулся городовой. <...> А три месяца назад? Впрочем, не стоит ворошить белье истории...» (1, 312).
«Что это за загадочная фраза? — задается вопросом Бар-Селла. — Что за белье, какой истории? Что могло не нравиться городовому в нашем герое, и именно три месяца назад?».
Это может быть только одно, — заключает он: участие автора дневника в студенческих волнениях. «Правда, в феврале 1914 года студенты в Москве не бунтовали, — замечает с досадой Бар-Селла. — Но что мешает нам видеть здесь свободное творчество, не привязанное рабски к календарю? Ничто не мешает»43.
Путем такого вот «свободного творчества» и словесной эквилибристики Бар-Селла смело перемещает студента Тимофея из 1914 в 1910 год. Тогда и в самом деле происходили студенческие волнения, после чего занятия в университетах были прекращены, а в феврале-марте 1911 года более тысячи студентов были исключены из университета, а сотни высланы из Москвы.