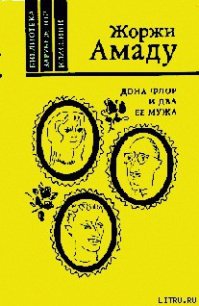«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа - Кузнецов Феликс Феодосьевич (бесплатные книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Развертывая контраргументы (другой автор, другой роман, другой герой, другая поэтика), Вы не можете отрицать, что действительность в этой мистерии была одна, близкая по месту и времени. И если бы какие-то записи Крюкова попали бы к Шолохову, он мог их использовать по-своему. Короленко (не какой-нибудь декадент!) полагал, что художник создает свою собственную «иллюзию мира», далекую от зеркальной объективности. Поэтому «мир Толстого» и «мир Чехова» различаются, при одной действительности.
Эту версию (об использовании чужих материалов) нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Выносить ее на публичный суд можно было только «по
- 740 -
злобе?», объяснимой разными причинами, но научное исследование такая утрированная подозрительность и даже уверенность в недоказуемом (украл, не у этого, так у другого) — не красит. Правда, и Шолохову не следовало утверждать, что он Крюкова не читал и не знает, во что трудно поверить.
По поводу использования чужих материалов мне близка точка зрения М. Чудаковой, приведенная Вами.
Ведь и Г. Хьетсо, который в 80-е годы делал доклад в ИМЛИ (председательствовал, помнится, П. В. Палиевский), завершил свое выступление несколько неожиданно: «Писал Шолохов, а что у него на столе лежало, — я не знаю».
То, что рядом с умирающим Крюковым мог (не мог) находиться Петр Громославский, документально не подтверждено: свидетельства заинтересованных в ту или другую сторону лиц — все позднейшие, да и в той горячечной круговерти даже «документ» не всегда соответствовал реальности.
Стержневая по материалу и убедительности глава о рукописях написана на высоком текстологическом уровне с продуктивным вниманием к общему и частному. Это, безусловно, главный козырь исследования.
С точки зрения текстологии лучше назвать главу «О чем говорят черновые рукописи», так как преобладают не первичные черновики, а «переработка» (по слову Шолохова), т. е. новая редакция, превращающая перебеленный текст в черновой (хорошо бы факсимильно воспроизвести эти страницы). И вообще-то рукопись разнохарактерная, и анализу подвергнуты не одни «черновики».
Написанные с большим чувством страницы о Филиппе Миронове только по виду являются историческим фоном. В них ключ к пониманию «двойственности» и позиции Шолохова, и образа Григория Мелехова, ибо и русская революция, и русская Вандея были крестьянскими: «солдат — процентов на восемьдесят — переодетый в шинель крестьянин (казак), сначала поверивший обманкам большевиков о земле и воле, а потом яростно восставший. И те «старатели», которые выстраивают свое деление текста «Тихого Дона» на примитиве: «красные» страницы — шолоховские, «белые» — крюковские просто не понимают того, что происходило в те годы в России. И не обладают словесно-интонационным слухом. Ведь тональность писем «красного» Ф. Миронова совпадает с тональностью «белого» Ф. Крюкова: убеждающая, незлобливая рассудительность, сердечная, если угодно, народническая, боль и тревога за судьбу народа.
Самая яркая и убедительная глава о поэтике Шолохова и Крюкова одновременно принесла мне, как человеку четверть века занимающемуся «Русским богатством» и Короленко, немалые огорчения. У всякого исследователя вырабатывается рефлекс защиты своего материала, особенно если этот материал всеми пинаемое и распинаемое народничество. Я допускаю, что во мне развилась особая болезненная чувствительность ко всякой критике моего «подзащитного», но стараюсь критику, соответствующую фактам, принимать и сама высказывать.
В Вашей работе меня огорчило следующее.
Вы утверждаете, что для «народнической традиции», которой придерживался Крюков, «народ является объектом жалости», а для Шолохова — «объектом любви и гордости». «До любви к народу... была не в силах подняться “обличительная” народническая литература с ее комплексом “вины и долга перед народом”, унижающим народ чувством жалости к нему». «Крюков так и не вышел за пределы традиций русской литературы XIX века, причем узко народнического...».
Мотив «презрения к жалости» и требование «уважения» к человеку возник на рубеже веков под влиянием Ницше, восставшего против «старой морали» христианства. И был поддержан и Горьким, и модернистами, и марксистами, которые на разные лады проповедовали «любовь к дальнему» так или иначе «преобразованному» человечеству. И презрение к современному «миллионному» обывателю. Этому хору противостояло «Русское богатство». Михайловский напоминал, что в народном языке слова «жалеть» и «любить» значат одно и то же. А Короленко едва ли не в каждом своем рассказе утверждал сострадание, причем не избирательное (по классовому, религиозному, национальному или эстетическому признаку), а безусловное, как незыблемая основа жизни.
М. Пришвин в своем дневнике 1930 года рассуждал: «Откуда явилось это чувство ответственности за мелкоту, за слезу ребенка <...> Это ведь христианство, привитое нам отчасти Достоевским, отчасти церковью, но в большей степени и социалистами. Разрыв традиции делает большевизм...» («Октябрь», 1989, № 7, с. 175). Сам Пришвин до революции был связан с социалистами народнического типа (журнал «Заветы», Иванов-Разумник).
Революционное презрение к жалости можно встретить у Шолохова (вспоминается Нагульнов) с его библейским размахом характера и страстей. У Крюкова совсем другой настрой души, евангельский по своей окраске (недаром он хотел стать священником и всегда любовно изображал священнослужителей). Не претендуя на первенство, крюковская «тихая печаль» тоже имеет свою цену. И я даже полагаю, что есть один жанр — эпистолярный, в котором Крюков превосходит Шолохова. Письма Крюкова очаровывают своим юмором, самоиронией, в них сквозит душа «Доброго человека с Тихого Дона», чего о Шолохове не скажешь.
Постоянное уничижительное педалирование по отношению к Крюкову меня ранит: «второстепенный донской писатель»; «автор уровня Федора Крюкова»; «однообразный», «унылый», «скучный», «тоскливый» описатель; презрительное «претендент», хотя скромный Крюков, по верному замечанию Солженицына, всю жизнь избегал всякой «надутой претензии».
Прежде всего, было бы «ах, как хорошо!» (помните у Писарева?) поубавить уничижительную лексику, не отказываясь, разумеется, от содержательных характеристик.
Вспоминается остроумная фраза о Крюкове, сказанная мне на рубеже 80-х годов в нашей институтской библиотеке: «С тех пор, как его обвинили в том, что Шолохов украл у него “Тихий Дон”, его книги рекомендовали не выдавать».
Не надо делать Крюкова «обвиняемым» в этом обоюдозапальчивом процессе! Его следует признать скромным, но настоящим писателем, с отдельными высокими удачами («Отец Нелид», «Мать», «Четверо» и др.).
Когда Антон Крайний (З. Н. Гиппиус) в 1913 г. обозвала Крюкова «беллетристической бездарностью», а Крюков, со свойственной ему самокритичностью, принял эту характеристику, Короленко решительно возразил: «Мнение Антона Крайнего нам окончательно не указ <...> Крюков писатель настоящий, без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной нотой, и первый дал нам настоящий колорит Дона» (Избранные письма. Т. 3. М., 1936, с. 228). «Классик Дона», определил Солженицын, много читавший Крюкова и показавший «уровень его мастерства» в главе 15 («Из записных книжек Федора Ковынева»), составленной из подлинных выписок из Крюкова, о чем Солженицын уведомил в конце «Октября шестнадцатого».
Эти выписки (в частности, пейзажные и портретные) отличаются яркой образностью и не похожи на те действительно анемичные примеры, которые приведены у Вас. Конечно, Солженицын отбирал самое удачное, но зачем Вам демонстрировать только слабое, явно проигрывающее на фоне шолоховского стиля?..
Этот отзыв — серьезный урок для меня как исследователя: в полемическом задоре, если ты стремишься оставаться в контексте серьезной науки, конечно же, не следует возвышать одного писателя за счет другого — так, как это делают «антишолоховеды». Да и есть ли необходимость возвышать Шолохова за счет Солженицына или Крюкова? Шолохов — писатель самодостаточный и к его масштабу это уже ничего не добавит.