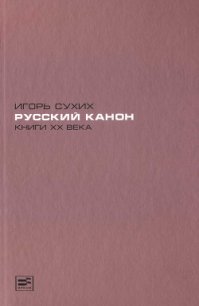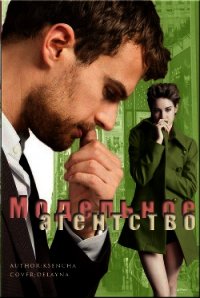Русский канон. Книги XX века - Сухих Игорь Николаевич (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
Прочитав на литературном вечере новые стихотворения, «Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением, уже искал создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе».
Непосредственным толчком к новой работе становится свидание с матерью и «чистейший звук пушкинского камертона», «прозрачный ритм “Арзрума”». На самом деле книга неосознанно пишется еще раньше, с первых строк второй главы, где Федор снова проваливается в детство и видит отца внутри радуги – «в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю».
Отец оказывается центром детского рая, рая прошлого, оставшегося в России. Его образ приобретает легендарные, мифологические, почти божественные черты. Отец одарен всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями. Он путешественник, остроумец, титанический труженик, замечательный ученый, счастливый семьянин, вызывающий всеобщее восхищение своей душевной щедростью. И не случайно он не то что погибает, а исчезает, растворяется где-то в разворошенном войнами и революцией мире, постоянно тревожа воображение, приходя в сны сына. «Застонав, всхлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов подстриженных усов наросло блаженно-счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось».
«Стройная, ясная книга», однако, снова не складывается, растворяясь во тьме черновиков, набросков и выписок. «Хочешь, я тебе признаюсь, – исповедуется Федор матери, – ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений, – и прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту там, где на свою охоту ходил отец. Видишь ли, я понял невозможность дать произрасти образам его странствий, не заразив их вторичной поэзией, все больше удаляющейся от той, которую заложил в них живой опыт восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов».
Жизнь и смерть Яши Чернышевского представляется Федору-писателю слишком литературно-банальной: «Одна уж наличность такой подозрительной ладности построения, не говоря о модной комбинационности его развития, – никогда бы мне не позволила сделать из всего этого рассказ, повесть, книгу». Судьба отца, напротив, не укладывается в книгу, оказывается больше, глубже любых объяснений, сливается с историей России: «ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца».
Набоков-автор и здесь оказывается удачливее героя. В тексте-конспекте романа, который Годунов-Чердынцев, возможно, еще напишет, наполненном роскошными северными и восточными пейзажами, любимыми бабочками, учеными ссылками, мелькающими, как в калейдоскопе, фигурами друзей-ученых, родных, спутников по экспедициям, – есть ключевой эпизод и главное слово. «В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек был овеян чем-то, еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим… Мне иногда кажется теперь, что, как знать, может быть, удаляясь в свои путешествия, он не столько чего-то искал, сколько бежал от чего-то, а затем, возвратившись, понимал, что оно все еще с ним, в нем, неизбывное, неисчерпаемое. Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что оттого-то и получалось то особое – и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств, – одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи».
Слово «тайна» уже мелькает в описании страданий потерявшего сына Чернышевского-отца. Чуть позднее потерявший отца сын еще раз попытается проникнуть внутрь отцовского одиночества, разгадать его. «И ныне я все спрашиваю себя, о чем он, бывало, думал среди одинокой ночи: я страстно стараюсь учуять во мраке течение его мыслей и гораздо меньше успеваю в этом, чем в мысленном посещении мест, никогда не виданных мной. О чем, о чем он думал? О недавней поимке? О моей матери, о нас? О врожденной странности человеческой жизни, ощущение которой он таинственно мне передал? Или, может быть, я напрасно навязываю ему задним числом тайну, которую он теперь носит с собой, когда, по-новому угрюмый, озабоченный, скрывающий боль неведомой раны, смерть скрывающий, как некий стыд, он появляется в моих снах, но которой тогда не было в нем, – а просто он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал».
За цепью риторических вопросов возникают два принципиально различных варианта ответа. Возможно, тайна – намек на потустороннее, предчувствие «едва вообразимых свиданий», того неизбежного шага «на брег с парома Харона», о котором вдруг думает Федор, примеряя новые башмаки.
Но, может быть, она, напротив, земное ощущение абсолютного счастья (запомним это слово), связанное с полным воплощением дара, с умением (у отца) именовать недоназванный мир или (у сына) воссоздать этот мир с помощью слова.
Ключевое слово «тайна», возможно, попало в «Дар» с помощью Чехова. В «Даме с собачкой» впервые полюбивший и скрывающий свою любовь от всех герой думает, что у него две жизни: одна – обычная, видимая всем, другая – «протекавшая тайно». «И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна». Набоков-профессор читал этот «один из самых великих в мировой литературе» рассказов со студентами, цитируя в том числе и фрагмент о тайне.
Правда, у чеховского героя (и в мире Чехова вообще) «тайна» демократически характеризует любого («у каждого человека»), а у Набокова она становится знаком избранничества, духовного аристократизма («особое одиночество»).
Завершенной Годуновым-Чердынцевым оказывается лишь третья попытка прозы. «Жизнь Чернышевского» уже не размывается потоком авторской жизни, а кристаллизуется, окольцовывается сонетом («спираль внутри сонета»), выделяется в отдельную главу. Эта, даже более знаменитая, чем весь роман, четвертая глава была выброшена при первой публикации «Дара» в «Современных записках», а вернувшись на свое место в отдельном издании 1952 года, все равно часто оценивается как самостоятельный текст первичного (сам Набоков), а не вторичного автора.
Пренебрегая набоковскими пародийными ловушками, даже критики-«эстеты» идут напролом, превращаясь в набоковских героев.
«Что же касается издевательства над самим героем, тут автор переходит всякую меру. Нет такой отталкивающей подробности, которой он бы погнушался… Автор на протяжении всей своей книги всласть измывается над личностью одного из чистейших, доблестнейших сынов либеральной России, – не говоря о попутных пинках, которыми он награждает других русских передовых мыслителей, уважение к которым является в нашем сознании имманентной частью их исторической сущности».
«Однако подлинная цель этого эссе – не понять свое анти-“я” (“анти” по всем параметрам: происхождение, свойства характера, взгляды на жизнь), а высмеять его и разоблачить как псевдогероя (спаситель России разоблачает губителя России), утверждаясь в качестве истинного героя за счет этого разоблачения. Вот почему в эссе торжествует глумливый тон, а те действительно любопытные мысли, которые посещали Годунова-Чердынцева во время работы над книгой, не нашли в ней места…»
Одна цитата принадлежит романному «профессору Анучину», другая – Вик. Ерофееву; почувствуйте разницу. «Теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь», – говаривал булгаковский герой. Как будто «те действительно любопытные мысли», посещавшие героя, – факт бытовой, а не романной реальности и не имеют отношения к авторскому замыслу?!