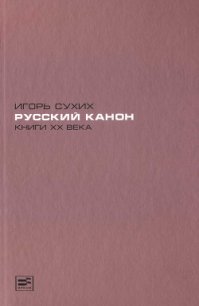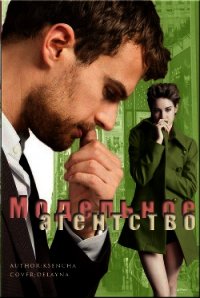Русский канон. Книги XX века - Сухих Игорь Николаевич (книги регистрация онлайн бесплатно .txt) 📗
Наконец, гиперболический образ земного дома, где вместо окна – зеркало.
Кроме этого, книгу наполняют призраки (феномены, родственные отражениям в зеркалах), сновидения (зеркально искаженные впечатления дня), двойники, литературные отражения в поставленных под углом жанрах-зеркалах.
На острие, в центре этого многослойного «зеркального романа» (Ж. Нива), органной книги, хора голосов, череды отражений окажется Федор Годунов-Чердынцев – изгнанник, человек без определенных занятий, поэт.
Структуру книги Набоков объяснял – с интервалом в десятилетие – в предисловии к английскому изданию «Дара» (1962) и в аналогичном тексте, предпосланном рассказу «Круг» (1973).
«Действие “Дара” начинается 1 апреля 1926 года и заканчивается 29 июня 1929 (охватывая три года из жизни Федора Годунова-Чердынцева, молодого эмигранта в Берлине)».
«Его героиня не Зина, а Русская Литература. Сюжет первой главы сосредоточен вокруг стихов Федора. Глава вторая – это рывок к Пушкину в литературном развитии Федора и его попытка описать отцовские зоологические экспедиции. Третья глава сдвигается к Гоголю, но подлинная ее ось – это любовные стихи, посвященные Зине. Книга Федора о Чернышевском, спираль внутри сонета, берет на себя главу четвертую. Последняя глава сплетает все предшествующие темы и намечает контур книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать, – “Дара”».
В этих объяснениях существенно расподобление, так сказать, антизеркальность; героиня не Зина, а Русская Литература; автор уже написал роман, который герой только задумал.
Набоков все время настаивал еще на одном несовпадении. «Я жил в Берлине с 1922 года, то есть одновременно с молодым героем этой книги, но ни это обстоятельство, ни кое-какие общие наши интересы, как, например, литература и лепидоптера, не дают никаких оснований воскликнуть “ага!” и уравнять рисовальщика и рисунок. Я не Федор Годунов-Чердынцев и никогда им не был; мой отец не исследователь Центральной Азии… Я не ухаживал за Зиной Мерц и не был озабочен мнением поэта Кончеева или любого другого писателя».
«Это самый длинный, по-моему, лучший и самый ностальгический из моих русских романов. В нем изображены приключения, литературные и романтические, молодого эмигранта в Берлине, в двадцатые годы; но он – это не я. Я стараюсь держать моих персонажей вне пределов моей личности» (интервью 1962 года).
Писателю, особенно такому мистификатору и конструктору, как Набоков, к тому же имевшему двойника, профессора – историка литературы, не обязательно верить на слово. В книге часто сказывается не то, что автор хочет сказать, предполагает, видит изнутри. Но в данном случае (хотя исследователи Набокова чаще утверждают обратное) автор предпринял немалые и вполне успешные усилия по расподоблению.
Федор, конечно, – персонаж автопсихологический, одной с автором «Дара» группы крови. Но все же «он – это не я».
Ответить на вопрос: «Кто же он?» – позволяют прежде всего литературные зеркала.
В романе густо представлен литературный быт: салоны, споры, чтения, собрания (изображенные с юмором, напоминающим Ильфа с Петровым и Булгакова). Писателей, критиков, вторичных жанров в «Даре» не меньше, чем зеркал.
Пишет стихи и дневник несчастный самоубийца Яша Чернышевский. Пересказываются литературные замыслы «самого» Чернышевского и воспроизводится посвященный ему сонет «безвестного поэта». Мелькают блистательные строки молчаливого и загадочного Кончеева. Цитируются философская трагедия Германа Ивановича Буша, его не менее нелепый роман, а также «сочувственно встреченная эмигрантской критикой» «Седина» Ширина. Приводятся фрагменты псевдомемуаров Сухощокова о старом Пушкине и философского трактата не менее призрачного Делаланда. Пародируются – с прямым указанием на объекты – А. Белый и Г. Чулков. Излагается стихами («чтобы не было так скучно») Марксово «Святое семейство». Эмигрантская критика, конечно, тоже тут: невежда Валентин Линев (Варшава), язва Христофор Мортус (Париж), «ученый малый, но педант», профессор Анучин (Прага), рецензенты монархические и «большевизанствующие» (портреты Набокова условны, злы, но зеркально, типологически узнаваемы).
И все это на поверхности, на виду. В глубине же – густой бульон скрытых цитат, пародийных и серьезных намеков, реминисценций, которые с азартом разгадывают сегодняшние Кончеевы, Мортусы и Анучины.
Самым длинным литературный шлейфом, естественно, снабжен центральный персонаж.
В первой главе он перечитывает и комментирует только что вышедшую книгу стихов, сочиняет стихи новые, прикидывает, какой получилась бы повесть (роман) о юноше-самоубийце. Герой отказывается от замысла – но Набоков-автор эту новеллу все-таки сочиняет и оставляет в тексте («я никогда им не был»).
Во второй главе Федор работает над книгой об отце. Она опять-таки оставлена номинальным автором, но дописана, рассказана автором «Дара».
В третьей главе подробно рассказано об истории поэтических увлечений и опытов героя, сочиняются новые стихи, обращенные к Зине Мерц, и начинается работа над книгой о Чернышевском.
Четвертая глава – наконец-то чистый «роман в романе». «Жизнь Чернышевского» становится первым завершенным прозаическим опытом Федора.
В пятой главе перо Годунова-Чердынцева отдыхает. Он сочиняет лишь письмо к матери. А в остальное время – просто живет: читает рецензии, участвует в похоронах и литературном собрании, проводит день на озере, видит сны, встречается с любимой, мечтает о новой книге или даже книгах, которые ждут, зреют, просятся наружу.
Функции этих текстов в тексте многообразны. Набоков выстраивает свою иерархию литературных ценностей («Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы»; «Обратное превращение Бедлама в Вифлеем – вот вам Достоевский»). Он сводит счеты с литературными противниками (в Христофоре Мортусе сразу угадали злую пародию на Г. Адамовича). Он виртуозно имитирует литературную неумелость, фольклорную простоту, мемуарную обстоятельность, критическое хамство, философскую эзотерику.
«Дар» – редкая даже для автора «Дара» энциклопедия жанров, микрожанров и псевдожанров. Причем – необходимо отметить особо – включающая автокритику собственного стиля.
Во фрагменте из романа «Седина», автор которого, писатель Ширин, был «слеп, как Мильтон, глух, как Бетховен, и глуп, как бетон» видят (А. Долинин) пародию на монтажную прозу с широким кругом адресатов – от Шкловского, Пильняка и Маяковского до Ю. Анненкова и В. Яновского. Однако по тому же монтажному принципу – с мгновенной переброской действия, столкновением разноплановых деталей – строится один из немногочисленных выходов повествования в историческое пространство: «Меж тем, ничто не остановилось после Яшиной смерти, и происходило много интересного, в России наблюдалось распространение абортов и возрождение дачников, в Англии были какие-то забастовки, кое-как скончался Ленин, умерли Дузе, Пуччини, Франс, на вершине Эвереста погибли Ирвинг и Маллори, а старик Долгорукий, в кожаных лаптях, ходил в Россию смотреть на белую гречу, между тем как в Берлине появились, чтобы вскоре исчезнуть опять, наемные циклонетки, и первый дирижабль медленно перешагнул океан, и много писалось о Куэ, Чан-Солине, Тутанхамоне…»
В конце этого монтажного проброса подробно, крупным планом будет пересказана история нелепой гибели, случайного убийства трехлетнего мальчика (достоевская «слезинка ребенка»). Имя Достоевского появится и сразу после пародийного фрагмента из романа «Седина». Так что подозрительная близость псевдонима Набокова и фамилии шепелявого «литератора-середняка» (Сирин-Ширин) явно умышленна.
Однако естественную монтажность и случайность жизни неспособный что-либо именовать Ширин запирает в клетку унылого лейтмотива, ходячего шаблона: «Господи, отче?.. – Господи, отчего?.. – Господи, отчего Вы дозволяете все это?» (Гумилев, рассказывают, шутливо приказывал жене убить его своей рукой, если ему вдруг вздумается «пасти народы».) Сделав прокол из преображенного мира романа в историческое время, Набоков – через двести с лишним страниц – зажигает на этом пути предупредительный красный огонек: дальше нельзя, там модная пошлость, расхожий прием.