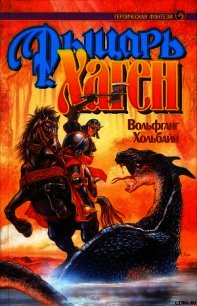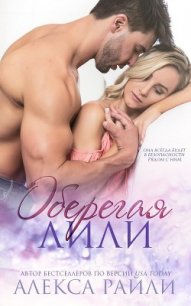Бессмертны ли злые волшебники - Богат Евгений Михайлович (электронную книгу бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Мои чудаки: восемь портретов
С юности завидую я художникам-портретистам. Если собрать в небольшом зале по одному портрету Рембрандта, Веласкеса, Мане, Серова… возможно ли более емкое и напряженное повествование о красоте и сложности человека?! Чтобы выразить то же языком литературы, наверное, понадобились бы сотни объемистых и, само собой разумеется, талантливейших томов. Мастерство больших художников-портретистов, мне кажется, граничит с волшебством.
Лица и руки Рембрандта и Серова — это романы и повести, умещенные чудом на небольших кусках холста. Можно ли выдумать эти лица? Нет! Их можно только увидеть: в самой жизни. И, увидев, «остановить мгновенье» с помощью кисти или карандаша.
Но что это — увидеть? Разве любой из нас не видит ежедневно, вольно или невольно, новые человеческие лица? О! Видеть еще не означает увидеть.
Помню, Михаил Михайлович Герасимов, наш талантливый ученый, художник, антрополог, влюбленный в человеческое лицо, давший нам возможность увидеть воссозданные им с научной точностью лица матери Достоевского, адмирала Ушакова, Ивана Грозного, говорил:
— Человек сам создаетсебе лицо. На нем отражается все: и раздумья, и разочарования, радость любви и чистота помыслов, отражается и хорошее и дурное. Отражается не на час, не на день, а навсегда. Чем содержательнее жизнь человека, тем интереснее его лицо. Есть лица, которые можно читать, как повести…
Увидеть по-настоящему человеческое лицо и означает понять эту повесть.
В первом раздумье «Сердце и фантазия» я обещал рассказать о чудаках. Но мне бы хотелось их показать. Я давно мечтаю о небольшой картинной галерее, где были бы собраны портреты людей, поразивших мою фантазию и мое сердце.
«Восемь портретов» — первая и, видимо, еще далеко не совершенная попытка создания подобной галереи.
Вот они, мои чудаки.
Портрет первый
Поезда через Серебряные Пруды в сторону Москвы ходят вечером и рано утром. Я опоздал к последнему вечернему поезду, и Трофимыч посоветовал мне переночевать у местного лесника Ивана Романовича Демченко.
Перед этим в течение двух суток я разъезжал в санях по растаявшим днем и обледенелым ночью дорогам Серебряно-Прудского района. Я искал человека с интересной военной биографией, о котором стоило бы рассказать в газете накануне Дня Советской Армии. Мой блокнот был исписан до последних страниц.
Жалостливо понукая усталую лошадь, Трофимыч повез меня к леснику. Во время наших странствий этот подвижной, худощавый старик развлекал меня всяческими историями, подобно всем возницам, выведенным в русских рассказах и повестях.
И сейчас, как только мы тронулись по дороге в лес, он начал:
— Вам, конечно, интересно узнать, почему места наши называют Прудами, да еще Серебряными. История эта давнишняя. Лет, может, двести, а может, триста назад царица Екатерина Вторая возвращалась с юга к себе, в северный Зимний дворец. Возвращалась она, конечно, не одна, а с графом Потемкиным. А края наши в то время, как деды рассказывали, были сплошь болота да дикие леса. Болот ужасно много было, куда ни ступишь — топь… Царице это, конечно, не понравилось. А Потемкин ее успокаивает. День был, видно, ясный, солнечный, в болотах отсвечивало, граф и говорит: посмотрите, мол, уважаемая, разве это болота, это пруды; видите, небо в них играет серебром, и назвать их поэтому должно Серебряные Пруды. Напел он ей про небо и серебро, и согласилась она с ним. Женщина… Так и назвали: Серебряные Пруды. — Старик помолчал, потом, обернув ко мне бородатое лицо, доверительно добавил: — Умирают болота.
— Как умирают? — не понял я.
— Научного объяснения я вам, конечно, дать не могу. А если не по-научному, а обыкновенно, по-человечески рассудить, то я объясняю это явление так: детей много народилось. В наших Серебряных Прудах детей — великая сила. Даже в военкомате на докладе для офицеров запаса товарищ из райисполкома об этом говорил. Мол, в согласии с цифрами одна третья часть населения наших Серебряных Прудов народилась после войны. А тут уже одно из двух: либо дети, либо болота…
Мы уже ехали по лесу. За темными соснами показались желтые пятна окон.
— Это и есть тот самый дом, — сказал старик. — Тут и отдохнете.
Едва подкатили сани, с крыльца торопливо сбежал человек в накинутом на плечи полушубке и, пожимая мне руку, широко улыбаясь как старому знакомому, назвался:
— Демченко, Иван Романович, лесник.
Втроем мы вошли в дом. Навстречу нам, в кухню с жарко натопленной печью и накрытым к ужину столом, вышла из комнаты женщина лет сорока; она вела перед собой сонную босую беловолосую девочку.
— Раздевайтесь, пожалуйста, — сказала женщина. — И не думайте, что обеспокоили. Мы еще не укладывались. Иван Романович незадолго до вас из лесу вернулся. Сейчас молоком вас напою…
Говорила она негромко, певуче. И жесты ее, походка тоже были тихи и словно певучи.
— Дом у нас большой, — заговорил Демченко с веселым радушием, — гости бывают часто. Летом писатель из Москвы два месяца жил, о наших лесах роман писал.
— Погоди ты, — остановила его жена, — может, человек и не лесом вовсе интересуется.
— Да как же это возможно, чтобы в лесу да не лесом интересоваться! — удивился он и, усадив меня за стол, стал рассказывать: — В этом году лиственницы и дуба посадили мы три гектара…
— Кормит соловья баснями, — усмехнулась жена, подавая ужин.
— …кроме того, липы гектара полтора, не говоря уже о деревьях в питомнике, это статья особая, надо самому увидеть…
Он рассказывал мне о вековых, воспетых в былинах и старинных разбойничьих песнях местных лесах, и мне казалось, что я слышу, как гудят надо мной сосны, и слова хозяина долетали до меня уже сквозь сон. Очнулся я оттого, что чья-то рука коснулась моей.
— Отдохните, я постелила…
— Ты понимаешь, что говоришь! — возмутился Демченко. — Человек утром уедет и леса нашего не увидит!
— Пожалей человека… — начала было жена, но лесник решительно остановил ее на полуслове:
— Я дам ему валенки, полушубок. Будет хорошо.
Одевшись, мы вышли под низкое безлунное небо.
Ночь была полна снега и облаков. В сыром, туманном воздухе смутно чернели деревья. Миновав санную дорогу, мы пошли, утопая по колено, снежной целиной. Я с трудом поспевал за Демченко; он почти бежал, с силой вытаскивая ноги из сугробов, работая руками и туловищем, точно пловец, борющийся с быстрым течением. Он повел меня к окруженной легкой изгородью открытой поляне. На ней редко стояли высокие деревья и едва вырисовывались в сером полусвете тонкие ростки. Мы остановились, перевели дыхание.
— Это наш питомник, — заговорил Демченко и, точно опасаясь, что я не пойму его, пояснил: — Питомник — научное название. А если душевнее, то детский сад или школа. Только растят в ней не детей, а деревья. Есть у нас тут и маньчжурский орех, и китайский лимонник, и одно растение, очень редкое для московской земли…
Он подошел к низкому незнакомому деревцу и опустился перед ним на колени, уйдя по плечи в снег. Лицо его оказалось вровень с маленькими темными листьями; он осторожно оторвал один, зачем-то потрогал его губами и посмотрел на меня с торжеством.
— Каучуконос!
Потом поднялся весь облепленный снегом и молча повел меня дальше. Теперь мы шли медленней. Демченко, наклонив голову, осторожно растягивал маленький темный лист. Обнажались тонкие упругие нити.
— Будет жить, — решил лесник.
И стал развивать полюбившуюся ему мысль:
— Питомник — это, говорю вам, наподобие детского сада или школы. Вы посмотрите вот на маньчжурский орех или на китайский лимонник. Выходили мы их, вывели в люди. И теперь можно бережно, с комом родной земли послать их хоть близко, хоть далеко. И будут расти на новом месте на пользу людям… А сейчас пойдем в рощу. Я покажу вам корабельную лиственницу, деревья редкой красоты. Будете стоять среди стволов, и покажется вам, будто плывете вы по морю в тумане…