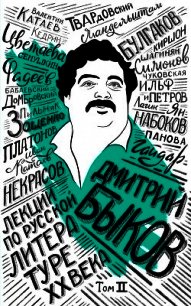Время потрясений. 1900-1950 гг. - Быков Дмитрий (книги TXT) 📗
Лишённый чуда Новый Завет Толстого, не является ли он предтечей рациональности Мережковского?
Ну, в известном смысле является, потому что Мережковский почти толстовец по многим своим взглядам. Но тут дело в том, что для Мережковского единственное чудо лежит в плоскости художественного, для Мережковского само по себе творчество – уже присутствие Бога и чуда. Толстой к творчеству относился, как мы знаем, гораздо более прозаически, в последние годы вообще как к игрушке. В остальном, конечно, Мережковский рационален. Да, он действительно считает, что вера – это вопрос разума. Точка зрения, может быть, немного схоластическая, но я могу объяснить, почему он так думает. Слишком часто иррациональными вещами – экстазом, бредом, – слишком часто этим оправдывалось зверство. Ведь те люди, которые ненавидят рациональную составляющую веры, они чаще всего звери, они чаще всего сторонники каких-то экстатических, очень опасных состояний. А Мережковский интересовался сектантством, но он относился к нему очень скептически. Очень трудно пройти по тончайшей грани между государственной религией с её официозом и экстазом секты с её бесчеловечностью. Вот Мережковский по этой грани, по этому лезвию бритвы, на мой взгляд, прошёл, потому что он и милосерден, и рационален. Я вообще не люблю людей, которые говорят: «О, это выше понимания, о, об этом нельзя говорить, этот опыт надо пережить». Если вы не можете этого сказать, значит, это не существует. Человеку дан язык для того, чтобы оформить мир, а не для того, чтобы его запутывать. И вообще от этой иррациональности сейчас уже бежать некуда. Да, вот это: «Вы этого не поймёте, вы не можете этого… Это надо пережить». Всё можно сказать! И всё можно почувствовать. И нам литература для этого дана.
Да, совершенно правильно, совершенство абсолютно не нужно. Самый совершенный фильм Чаплина – это «Месье Верду». Я, наверное, не знаю более совершенной картины. А она совершенно никем не признана и не принята. Она стала, конечно, культовой, но в очень небольшом кругу. А все любят сентиментальную «Золотую лихорадку» или страшно затянутые «Огни большого города». Знаете, совершенство вообще никому не нужно. Я, когда перечитываю Мережковского, всё время думаю, как это хорошо написано, как много мыслей, как это ценно. Но вот, скажем так, не менее мною любимый Куприн с его длиннотами, глупостями, с его яркими красками, с его аляповатостью, вот Куприн – да, Куприн нам родной, мы ему всё прощаем. А Мережковский это холод какой-то. Очень точно Андрей Кончаловский когда-то сказал: а вот Бах там, скажем, или Тарковский, или Бергман – это соборы, а люди любят Феллини, потому что Феллини это цирк. И действительно, Мережковский это собор, рационально построенный, строгий, умный! Но мне что-то подсказывает, что если бы в нашей жизни было больше таких соборов и меньше цирка, то эта жизнь была бы более осмысленной и менее кровавой.
Максим Горький
«На дне», 1902
Вряд ли можно пропустить самую популярную русскую пьесу 1902 года, премьера которой прошла в декабре. Говорим мы, конечно, о «На дне». Пьеса пользовалась большой славой во всём мире, во всём мире больше даже, чем в России, потому что в России она была разрешена единственному театру – а именно МХТ. Во всём мире её ставили так, что только на немецкие, скажем, постановки РСДРП существовало с 1903 по 1905 год, поэтому Горького в партии весьма ценили.
Пьеса первоначально называлась «На дне жизни», Леонид Андреев убрал лишнее из названия, и так стало гораздо лучше. Пьесу Горький начал писать в 1901 году, и первоначальный её замысел резко отличался от того, что получилось. Горький вообще пьесы писать не очень умел, как это ни ужасно звучит.
Во-первых, все персонажи разговаривают его голосом, с его бесконечными тире. Надо признать, что в его мемуарах так тоже разговаривают все, даже Толстой у него разговаривает по-горьковски. Во-вторых, драматургическое напряжение, сюжет ему даются трудно. Горький сам о себе неоднократно говорил, что он скорее очеркист, чем писатель (настоящего лаконизма он добился только в рассказах 20-х годов), в основном пользуется собственными жизненными наблюдениями, а жизнь, как известно, не так богата сюжетами, как деталями – именно в строительстве драматической фабулы Горький не силён. Пожалуй, у него 2 по-настоящему сильные пьесы (именно как пьесы) – это «Старик» и «Фальшивая монета». В них есть собственно фабула, и они как раз самые малоизвестные. «На дне» – в достаточной степени результат случайного развития. В двух словах расскажем, как это получилось.
Он задумал написать пьесу с совершено святочным, идиллическим сюжетом. Есть ночлежка, в ней озлобленные друг на друга, как он называл их, «бывшие люди». Они ругаются, теснят друг друга, грубят, негодуют, но тут наступает весна и они выходят из своей ночлежки, благоустраивают как-то свой участок, и на фоне этой весенней идиллии начинают разговаривать друг с другом и даже любить друг друга, и всё заканчивается каким-то не скажу катарсисом, но почти примирением. Первый акт этой пьесы он стал читать Толстому, Толстой относился к Горькому сложно. Поначалу ему очень понравился молодой писатель, потом он начал относиться к нему всё более скептически, может быть, тут был какой-то элемент литературной ревности с его стороны, потому что слава Горького очень быстро затмила славу Толстого. Горького тогда считали проросшим из гущи жизни, и слава его росла стремительно, и многие коллеги-профессионалы к этой славе очень сильно ревновали. Не ревновал, пожалуй, один Чехов, который сам о себе был достаточно высокого мнения. Что касается Толстого, то Толстой был как раз в этом отношении очень ревнив и даже, может быть, немного тщеславен, что для гения обычно. И Горький стал очень быстро его раздражать. Не случайно он сказал о нём Чехову удивительно точные слова: «У него душа соглядатая, он пришёл откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всём доносит какому-то своему богу. А бог у него – урод».
И вот в 1901 году уже знаменитый, прославленный Горький читает Толстому первые сцены из пьесы, и это вызывает у Толстого ярость, раздражение, он говорит: «Зачем, зачем вы копаетесь в этой грязи? Кому нужен весь этот так называемый реализм? Зачем вы описываете уродство, нищету, болезнь, пьянство, ведь это какое-то наслаждение пороком, какое-то смакование его?» Он даже не дослушал, и Горький обиделся. А как мы знаем, например, из истории пушкинского «Евгения Онегина», из истории того же Толстого – из обид, из личной мести очень часто получается высококлассная литература, ведь весь «Онегин» – это месть Раевскому, да и вообще светской молодёжи, которая над Пушкиным гадко издевалась. Вот Пушкин им отомстил раз и навсегда, всем этим пародиям на Наполеона, всем этим ничтожествам. «На дне» – это тоже акт мести, только акт мести Толстому. Благодаря Толстому в пьесе появился Лука, единственное по-настоящему живое действующее лицо.
Что такое «На дне»? Ведь это довольно странная история. О чём пьеса? Действительно, следы первоначального замысла остались в первом акте: остался ужас жизни, осталось презрение, негодование, осталось очень горьковское ощущение, что эти отвергнутые обществом люди и есть на самом деле настоящие, новые люди, босячество. По мере подъёма по социальной лестнице отношение самого Горького к босякам стало меняться: если в очерках «Бывшие люди» ему ещё казалось, что это зерно нового человека, сверхчеловека, как Челкаш – отверг общество и стал суперменом, то к 1902 году Горький уже думает иначе – для него это именно ил, придонный слой, и он ничего хорошего в ночлежных людях уже не видит. Они мучают Анну, которая умирает, они издеваются над Бароном, издеваются над Настей – ничего святого, они действительно бывшие. Но Лука – это, пожалуй, персонаж посерьёзней.