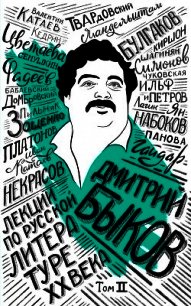Время потрясений. 1900-1950 гг. - Быков Дмитрий (книги TXT) 📗
Между тем теоретическая схема его трилогии «Христос и Антихрист» проста. Как, в общем-то, проста гегелевская триада. Начинается всё с романа «Юлиан Отступник», там речь идёт об отступничестве от христианства, о временном торжестве язычества. Вторая часть – «Леонардо да Винчи» – это слияние христианства и язычества, когда в эпоху Возрождения христианство оплодотворило, облагородило, одушевило древнюю веру, вернуло жизнь Античности. А третья часть, «Пётр и Алексей», самый знаменитый роман Мережковского, о том, как христианство постепенно начинает переживать себя и становится карающей силой, как в России церковь, взятая на вооружение государством, становится царством Антихриста. Именно поэтому этот роман сегодня предпочитают не вспоминать, роман о страшной государственной церкви, об антихристовой церкви. И, может быть, именно поэтому этот роман уже и при жизни Мережковского был и знаменит, и немного на подозрении.
Надо сказать, что Алексей Николаевич Толстой, сочиняя своего «Петра», перекатывал оттуда целыми страницами. Во всяком случае, всё, что касается быта старообрядцев, он почерпнул из Мережковского, думая, что Мережковского больше никогда в советской России переиздавать не будут. О, как он ошибался! Потому что, когда в девяностые годы начали Мережковского издавать, стало понятно, какой, в сущности, бледный роман «Пётр I», насколько у Дмитрия Сергеевича это лучше сделано. Но тем не менее ничего не поделаешь, в тридцатые годы Мережковского не помнил никто. Алексей Толстой как бы донёс его до нас, закапсулировав.
«Леонардо да Винчи» представляет собой вторую, вершинную часть трилогии, в которой как раз доказывается, что истинное христианство в служении культуре, в служении искусству и в служении познанию. Я рискну сказать, что это русский «Фауст». Ведь про что «Фауст»? Про то, как Бог в конце концов простил Фауста за его бескорыстие, за дух познания, потому что познание чудес Божьих – это высшая форма служения Богу. Мефистофель Фауста искушает, но из всех искушений Фауст выходит с одним – с жаждой знания, с жаждой экспансии человеческого духа. И вот за эту страстную экспансию Бог прощает Фауста. Потому что Он открывается не искавшим Его. Фауст же, в сущности, плохой христианин, он, может быть, не христианин вовсе. И поэтому то, что он служит только истине, при этом жертвуя собой, – это одно и спасает его для нас, это делает его всё-таки христианским служителем, христианским деятелем.
И вот Леонардо да Винчи. Это сложный, конечно, образ, может, самый сложный образ у Мережковского, но тем не менее это его модель служения Богу. Леонардо да Винчи соткан из противоречий. Там есть замечательная глава, дневник его ученика, который отмечает страшное сочетание звериной силы и почти женственной нежности в его облике. Да Винчи левша: и пишет левой рукой, и этой левой рукой он наносит тончайшие, нежнейшие мазки, когда пишет, но этой же левой рукой он может согнуть язык колокола и подкову, вот это удивительно. Леонардо всегда спокоен. Он никогда на протяжении книги даже голоса не повышает ни разу. И мы всё время запоминаем две детали: его холодные серо-голубые прозрачные глаза и всегда плотно сжатые тонкие губы. Он вообще холоден почти всё время. И он говорит удивительную вещь, он повторяет её в каждой части романа, в каждой книге, а роман довольно объёмный… Он говорит: художник должен быть ровен, как зеркало, чтобы отразить мир. Вот эта абсолютная ровность, безэмоциональность, спокойствие души. Но Леонардо живёт в очень жестокое время, и на «Рублёва» Тарковского это тоже очень повлияло. Художник окружён зверством, но сам художник не отвечает на эти зверства, он молчит, он ровен. Вот и Леонардо живёт в довольно жёстокое время, но максимум того, что он может позволить себе как мыслитель, как свидетель, – это сочувствие, иногда чуть презрительное. И, проходя мимо лавки, он говорит почти то, что семьдесят лет спустя написал Окуджава:
Это почти дословная цитата из Мережковского, которого Окуджава, я думаю, в это время не читал. Но Мережковский постоянно устами Леонардо повторяет, что человек – царь зверей, потому что по зверству своему он их всех превосходит. Кстати, это же причина, по которой Леонардо убеждённый вегетарианец, он не ест убоину.
Вот ещё что очень важно. Внутренним сюжетом и сквозным сюжетом романа является работа Леонардо над «Тайной вечерей». Многие упрекают Леонардо, как упрекали всю жизнь Мережковского, за рациональность замысла: говорят, ну, вот здесь у тебя треугольник апостолов в действии, здесь треугольник апостолов в любви, твоя картина слишком геометрична, она слишком прозрачна, она слишком интеллектуальна, в ней нет живого духа. Но Леонардо на всё это отвечает, что на самом-то деле Бог именно в духе познания, именно в уме. И ему сначала не удаётся лицо Иуды, потом в конце концов удаётся. И Иуда у него получается не просто злодеем, нет. Иуда – это человек, который воспользовался знанием во зло, грубо говоря, это отрицательный тип учёного. Потом долго ему никак не удаётся лицо Христа. И вот это очень мощный образ у Мережковского: «Вечеря» без Христа. И все говорят: Леонардо не сможет написать Бога, потому что в нём нет Бога. А потом он пишет всё-таки это лицо, полное божественной ясности.
Вот то, что Бог для Мережковского лежит в плоскости, страшно сказать, рационального, в плоскости ума и спокойствия, – это для русской литературы очень не характерно. Мы привыкли по Достоевскому, что Бога надо искать в безднах, в опьянении, даже, страшно сказать, в убийстве. А вот Бог, по Мережковскому, в образе Леонардо, в образе творчества и познания, потому что и Бог прежде всего учёный и творец. Это очень нерусский взгляд на вещи. Но это очень хороший взгляд на вещи.
Надо сказать, что самого Мережковского немного отпугивает такой Леонардо, стоящий по ту сторону добра и зла. Но ведь, господа, и Бог стоит по ту сторону добра и зла, в нашем понимании. Он сам их выдумывает и сам полагает свои законы. Он не слушается нашей морали, Он дал её нам. А Леонардо приближается к Богу, стремится к Нему. И вот такого Христа, такого понимания Бога в русской литературе до Мережковского действительно не было.
При этом Леонардо абсолютно чуждается, это тоже важно, плотских радостей. Ему знакома, разумеется, любовь, но его любовь по своей природе всё время ограничена, он страшно ограничивает её, потому что он понимает, что любовь такой силы просто испепелит свой объект, просто изничтожит его. Поэтому он чуждается женщин. Поэтому он даже пытается как-то максимально удалить и собственных учеников, понимая, что близость к нему опасна. Художник обречён на одиночество.
И вот здесь глубокая и точная связь этого романа с «Мастером и Маргаритой». Конечно, Мастер всегда находится действительно по ту сторону добра и зла, и люди должны его гнать, и люди должны его ненавидеть. Поэтому лучшее, чего заслуживает Мастер, – это чтобы его поместили в покой и он там творил. Потому что ни настоящей любви, ни настоящему искусству не место на земле. Когда люди дорастут до этого, не ясно. Мережковский верит, что когда-нибудь дорастут, Булгаков, кажется, лишён этих иллюзий. Но то, что искусство должно находиться где-то бесконечно отдельно от мира, – это глубокая и страшная мысль. Именно поэтому в стихотворении Мережковского, посвящённом Леонардо, он говорит: «…твой страшный лик запечатлён!» Лик страшного, божественного совершенства.
Именно поэтому, может быть, «Леонардо да Винчи» – роман, который сегодня так грустно перечитывать. Мы понимаем, как бесконечно далеко мы ушли по уровню от споров и борений 1901 года. Мы отброшены от них не на сто, а на пятьсот лет! И мы смотрим сегодня на это чудо с тем же трепетом и теми же проклятиями, с какими в начале романа в главе «Белая дьяволица» смотрит христианский священник на откопанные в лошадином холме чудеса античной скульптуры. Смотрит и кричит: «Это дьявол!» И когда сегодня на наших глазах барельеф Серебряного века сбивают с петербуржского фасада – это абсолютно точно то, что описано Мережковским в первой главе, когда христианский священник пытается разрушить статую Афродиты. Вот с таким же чувством мы смотрим сегодня на прозу Мережковского, которой мы, боюсь, не достойны. Если зачем-то её сегодня и перечитывать, то главным образом затем, чтобы понять, как глубоко мы упали.