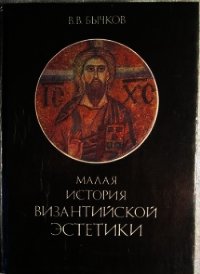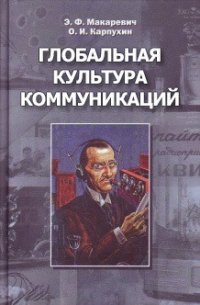Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. - Коллектив авторов (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
Но в умонастроении В. и его эстетическом субъективном восприятии подобные идеи сохраняют свою значимость, сливаясь с христианско-религиозными взглядами композитора. В рождественском письме к другу Бергу (1911) В. говорит: «У меня есть то, что меня ориентирует, ничего не объясняя: я верю в Бога!» Христианская религия для В. — не просто свод взглядов. Она также и определенный способ чувствования, что постоянно проявляется в характере музыкального материала, хотя к собственно религиозным сюжетам он обращается не часто (песни «Святая дева» и «Спаситель» из ор. 17, Crucem tuam op. 16 № 5).
Пожалуй, у В. есть нечто экстраординарное, и состоит оно в избираемой им некоей «точке», глядя из которой он созерцает мировое единство, проступающее в законах музыкального звука, в таинственных аналогиях и соответствиях. У него как бы два аспекта — синхронный и диахронный одновременно. Синхронно он проникает взором во внутреннюю сущность вещей (древние бы назвали это theoreo — смотреть во внутрь, отсюда «теория»), — в то, что является через звук, свет, цвет, горы, любые Божьи творения. Это гармония (мира), тишина, красота: «Наблюдать реальную природу для меня высшая метафизика, теософия». Высоко ценимый им В. Кандинский аналогично в беспредметной — «музыкальной» — живописи усматривал проявление мировых «космических» законов «духовного». Диахронно В. видит свою эпоху в сочленении ее со всеми предшествующими как постепенно открывающуюся большую историко-тектоническую плиту, причем она для него не движение и не развитие, а лишь постепенно обнаруживающееся неподвижное бытие («ставшее»). Точка зрения В. где-то «там», вверху, над земными делами. Остро ощущая волнующие перемены своего времени, В. в то же время дышит воздухом и античности, и Средневековья, и Нового времени. Закон серии, в его представлении, функционально аналогичен древнегреческому «ному»; кроме того, оказывается, что название этой мелодии-модели, ладовой формулы, означает чаемый им «закон». В тексте кантаты ор. 26 излагается платонов образ: «особенно чистый огонь внутри нас» (чисто веберновское), который «изливается через глаза» (Тимей, 45 b).
Одна из центральных идей эстетики В., собирающая, как в фокусе, линии его мыслей о всеобщности законов мира, естественной органике развития и эволюции, гармоничности взаимодействия различного и противоположного, осмысливается им через концепцию живой природы в натурфилософии Гёте (в его «Метаморфозе растений»). Гётевский образ превращения растительных форм становится для В. парадигмой форм чисто музыкальных: «Корень, в сущности, не что иное как стебель; стебель не что иное, как лист; лист опять-таки, не что иное как цветок: вариации одной и той же мысли» («Путь к Новой Музыке»).
Отсюда В. переходит к заветной тайне додекафонной музыки — к принципу серии (= ряда; нем. die Reihe), уподобляемой им гётевскому «прарастению». «Этот же закон приложим ко всему живому вообще. Разве не в этом сокровенный смысл нашего закона серии?»
Осн. соч.:
«Лекции о музыке. Письма». М., 1975.
Лит.:
Кудряшов Ю. В. Некоторые черты художественного мировоззрения А. Веберна. // Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 2. М., 1973;
Холопова В. Н., Холопов Ю. Н. Антон Веберн. М., 1984;
Rostand Cl. Anton Webern. L'homme et son oeuvre. P., 1969.
Ю. Холопов
Вертов Дзига (Денис Кауфман) (1896–1954)
Советский кинорежиссер и теоретик кино. С 1918 г. снимает документальные фильмы о гражданской войне и информационно-агитационную хронику («Кино-Правда»). В начале 20-х гг. В., находящийся под влянием идей футуристов (см.: Футуризм), пишет статьи и манифесты, в которых обозначает свою теоретическую позицию в кинематографе. Фильм «Кино-Глаз» (1924) стал одним из первых наиболее ярких воплощений этой позиции. Вертовские идеи «киноглаза», монтажа, «жизни врасплох» нашли в нем свое отражение. Развитие они получили в фильмах «Шагай, Совет!» и «Шестая часть мира» (оба — 1926). Самой значительной работой этого периода стал фильм «Человек с киноаппаратом» (1929), в котором была осуществлена радикальная попытка поиска «нового языка» — языка кино. Этот вертовский эксперимент и по сей день не потерял актуальности. Многие новаторские идеи в области формы были осуществлены и в следующих его фильмах — «Симфония Донбасса» (1930), «Три песни о Ленине» (1934), «Колыбельная» (1937). Однако, несмотря на искреннюю преданность В. коммунистической идеологии, ему дают снимать все меньше, а с 1944 г. и до смерти он делает ничем не примечательные сюжеты для киножурнала «Новости дня».
Для В. «большая правда» коммунизма начиналась с «малой правды» кинофакта. И, как следствие, «привычный» коммунизм лозунгов и агитплакатов получал у него дополнительное — рефлексивное — измерение. Это уже было не только название некоторой исторической цели, но внеисторическое место, где возможно жить и мыслить не по установленным (чуждым, буржуазным) правилам, а по иным, которые сформулировать на человеческом языке крайне трудно, поскольку он заражен буржуазной идеологией. Именно кинематограф дает уникальную возможность нового языка, опирающегося на кинофакты, эти своеобразные атомы будущего коммунизма. Такое понимание В. кинематографа позволяет ему мыслить «коммунизм» и «нового человека» вне «буржуазных» категорий, поскольку язык кино не человеческий, а машинный, — язык кинофактов. Он не зависит от психологии и несовершенств человеческого организма. У этого языка нет еще собственной грамматики, собственной азбуки, но есть элементы, из которых ее можно строить. В. утверждает: человеческий глаз разучился видеть правду, он видит только идеологию.
«Кино-глаз» (механический глаз) был призван показать киноправду, разрушающую тот образ реальности, который был сформирован классическим (для В. — «буржуазным») искусством. «Киноглаз» видит то, что человеческий глаз не видит, — либо в силу своей биологической слабости, либо из-за слабости психологической. Он не только предъявляет невидимое в мире, но также позволяет лучше рассмотреть видимое. Язык кинофактов становится основой монтажных идей В.
Теория кинематографического языка формировалась в 20-е гг. вокруг теории монтажа (см.: Кино). Монтажные опыты Гриффита и Кулешова уже стали азбукой кинорежиссуры, полемика шла вовсе не вокруг эффективности применения того или иного монтажного приема. Основным был вопрос: что является элементом монтажа? Для Кулешова это кадр, некоторое изображение. Для Эйзенштейна — аттракцион, нечто аффективное в самом изображении, от чего зритель не может быть эмоционально свободен. Для В. это — «движение», момент, когда вещь меняется, прежде чем успевает обрести значение. Если монтажные эксперименты Кулешова и Эйзенштейна были так или иначе направлены на манипуляцию зрительским восприятием, то для В. внимание к зрителю, выработка языка кино на основе принципов зрительского восприятия представлялись абсолютно чуждыми, поскольку это вновь возвращало к феномену искусства, манипулирующего фактами. В. постоянно декларирует, что «искусство» должно быть вытеснено На периферию нашего сознания, что оно должно быть отделено от факта. Но это значит, что должны быть подвергнуты переосмыслению многие (если не все) устоявшиеся логические связи. Мир должен быть радикально переинтерпретирован исходя из правды кинофакта.
Вертовское «право на эксперимент», о котором он не раз говорил в связи с выходом его программного фильма «Человек с киноаппаратом», — это прежде всего право на отказ от всего того, что навязано кинематографу литературой, право на непонимание, на разрушение сложившейся традиции восприятия. Не смысл эпизода, не конструкция целого интересуют его в этом фильме, но «монтаж движений», «динамическая геометрия». Все кинофакты для В. равноправны, ни у какой кино-вещи нет привилегии. Единственный принцип монтажа — движение, которое раньше оставалось без внимания и лишь соединяло осмысленные статические состояния. Момент изменчивости для В. — микрореволюция в кадре, преодоление человеческих установок на уровне психофизиологии восприятия, способ приблизиться к восприятию, не захваченному идеологией. Эксперимент «Человека с киноаппаратом» оказался настолько радикальным, что и сегодня его изобразительный хаос поражает. Но В. настаивал: зритель с его эмоциями и предпочтениями не может диктовать правила монтажа, этот фильм не для зрителя, а «фильм, помогающий делать фильмы». Это эксперимент с хаосом, возникающим вследствие всеобщего равноправия правд кинофактов. Хаос — это не просто беспорядочность, бессмысленность или анархия. Он указывает на то, что само восприятие требует изменения. Вертовский хаос возникает по правилам, которые для него задал В., которые не случайны, но продуманны, хотя и выражены зачастую в форме провокационных манифестов. И у этого хаоса есть своя внутренняя логика, выразителем которой становится «ритм». Для В. ритм универсален. Он является основой любой чувственности, это такой «перцептивный элемент, который является основой любой будущей перцепции» (Ж. Делёз о В.). Ритм руководит монтажом, а не создается в монтажной. Таким образом, вертовский «ритм» носит не субъективный, а объективный характер. Такой «ритм» нельзя воспринимать, ему можно только соответствовать.