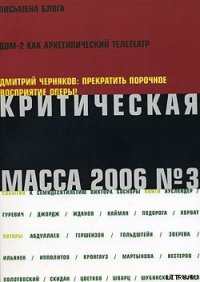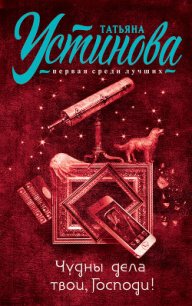Критическая Масса, 2006, № 4 - Журнал Критическая Масса (бесплатные книги полный формат txt) 📗
Кто-то из наших, преподававших русскую литературу, на гастарбайтерских началах, в Америке, рассказывал мне — как это у Бунина рассказ? «Легкая грусть»?
С. С. «Легкое дыхание»?
А. Б. Нет, именно «Легкая грусть» или «Легкая печаль», что-то такое… И американцы недоумевают, как это грусть, или печаль, может быть светлой, легкой, еще какой-то. Не поет. У них очень давно фольклор отделился в область национальных костюмов. А у нас… и костюмы забыли, и песни забыли, и петь разучились, — однако сам язык не отделился от этих начал.
Те, кто бывал в фольклорных экспедициях, скажем, на Севере, буквально сходили там с ума — от русской речи. Как эти бабки поют, когда разговаривают. Какое это точное слово…
Не надо вот только пробовать что-то улучшить. Самый добросовестный работник за весь советский режим — это язык, переплавивший все: и канцелярщину, и советские штампы, и феню, и мат, и зону; все ушло в язык, что-то выплюнулось, что-то осталось…
Как, допустим, живет анекдот? Это была наша единственная гласность в постсталинскую эпоху и при Брежневе, при его своеобразной доброте, особенно развившейся в застой. Анекдот сейчас вспомнить трудно, а осколок от него остался, он живет — так же, как жили осколки от Грибоедова или — живут теперь — от Венедикта Ерофеева. Это осколки точных реплик, цитаты, которые никому не принадлежат, которые стали частью речи. (Да, кстати, Иосиф очень здорово назвал свою книгу — «Часть речи».) Кстати, грамматика очень о многом говорит — она же имеет русскую терминологию, во многом. Говорят же, что слово «ерунда» произошло от слова «герундий»… А «Часть речи» — как это красиво!
Вот, например, у Льва Толстого: «Накурившись, между солдатами завязался разговор…» И меня иной раз тянет так сказать. Но это еще не произошло с языком. А действительно, ведь если начинаешь строить полный период: «Когда солдаты накурились, между ними завязался разговор», — что-то тут лишнее уже возникло, и может быть, со временем это превратится в какие-то другие формы, более естественные. Сейчас они могут казаться иной раз вульгарными, иной раз — просторечными, но все равно эта работа идет.
Так же, как происходит работа с ударениями. Двойное ударение — одно разговорное, другое… Вот сколько люди будут мучаться с «чашкой кофе»? Или с «звонИт» или «звОнит». В результате получится, что сначала в словарь войдет двойное употребление, однажды останется одно или будут узаконены оба. То есть какой-то процесс идет — медленно и правильно.
Или, как, наоборот, сказал тот же Венедикт Ерофеев — вот замечательная часть речи наша! — что у русского человека все должно происходить медленно и неправильно, чтобы не зазнавался человек. Медленно и неправильно.
С. С. Ну, и одновременно искать дырку в заборе, говоря о языке, который все норовит сойти с асфальта и спрямить путь — по траве.
А. Б. Чем больше строят забор, тем более он дырявый. Это еще, помню, нянька у моей старшей дочки, когда чай пили, все время говорила: «Пей, пей, вода дырочку найдет». Вот, значит, и язык найдет — он тоже текучая вещь.
Меня так восхитила, в свое время, информация, что у воды есть память… А ведь она была раньше, чем возник язык. Все-таки язык — это наша память. О каждом слове, если его начать развивать, можно написать по тому — столько в слове заключено информации. Не только о его лингвистической, генетической сути. И звуки… До букв если дойти — вообще можно с ума сойти. Начинается какая-то каббала.
С. С. А как вы, в этом смысле, к работе Хлебникова относитесь?
А. Б. Я вам уже говорил — я человек непросвещенный…
С. С. Нет, как читатель.
А. Б. Если бы я был читатель! Я Хлебникова никогда не мог читать — не потому, что он мне не нравился, а потому что… Не имею я к нему ключа. А на моду я не реагировал. И на протест я не реагировал. Я помню, что мне понравилась проза очень и повлияла на меня. И вошла внутрь меня. Я его чувствую — гораздо больше, чем знаю. И он, по-видимому, и есть — тоже чувство. Сам Хлебников есть чувство. Все не устают на него ссылаться, и футуристы так от него зависели. У них другое, может быть, было ухо, другая эпоха — слышали, что он делает с речью. Я этого не слышу — более традиционен. Но никак не возражаю — открываю и вижу, что… не догоняю, как теперь говорят. Вот вам, пожалуйста, сленг. А выразительно.
Да, может быть, это просто более наивные открытия, язык. Но иногда он так и рождался — как более наивная часть…
Вот, кстати, хорошая книжка. Давайте откроем где угодно. «Будетлянский клич». Я вдруг открыл, начал читать, — понравилось — Дмитрий Кравцов. Тут довольно большое сочинение. (Читает .)
С. С. Да… матиссовские краски. Зеленый и красный, не смешивает, схлестывает. А смешал бы — грязь.
А. Б. Я понимаю, что тут что-то происходит. Может быть, потому, что он менее известен. Может быть, слава что-то заслоняет. Крученых — тоже. То, что он был рыцарь, это я понимаю.
С. С. А Вы застали его, виделись с ним?
А. Б. Нет, но многие из моих друзей успели его посетить — и это производило на меня большое впечатление. Меня вообще чужая слава как бы тормозила. Неловко. Смотреть на человека, как в зоопарке.
Видите, наш сегодняшний разговор получается совсем другим. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Вот кто это придумал? Что он имел в виду — что это ответственность за слово? Ничего подобного. Что его назад не вернешь. Неповторимое сочетание речи. Либо — многие люди говорят одно и то же, либо — что-то еще происходит.
Меня жена пыталась научить понятию «два на два», коду удвоения русских смыслов. Как бы это сказать… Надо, действительно, не на уровне фольклорных ансамблей, а живую народную речь… Арина Родионовна — это не миф, а большая удача. Александр Сергеевич недаром в это вцепился. Наши чудные прозаики — их никогда не упомянут рядом с Булгаковым или Набоковым, — Писахов и Шергин, которые были северными людьми. На Севере дольше держалась речь. Это я не за лапти торгуюсь. А за музыку. Вот если музыка исчезнет — это другое дело.
А музыка не может исчезнуть — потому что язык поющий, льющийся, — как однажды польстил ему Томас Манн: «Язык без костей». Потому что немецкий — это одни кости. Все время скелеты, скелеты.
Я считаю, что одна из лучших страниц, мной написанных, — это посещение Берлинского зоопарка, отделения насекомых, связанного с мимикрией. Есть некоторые страницы, которые стоят гораздо дороже моего интервью. Может быть, действительно, лучше их воспроизводить. Чтобы текст имел двойное звучание. Самого себя цитировать как бы неловко, а в то же время есть места, которые лучше процитировать, чем пересказывать их на новый манер.
С. С. Возвращаясь к музыке языка и обстоятельствам речи, — странно, необъяснимо: как первое может обусловлено быть вторым? Вот — вдруг — возник Саша Соколов… Благодаря-вопреки кому-чему? Вдруг. Недоуменье Платона перед этим неисповедимым словом: Вдруг.
А. Б. Да, пришли Те Кто Пришли… Это, по-видимому, трудно, у него есть проблемы с текстом. Но я не думаю, что без этих проблем что-то может произойти.
С. С.Поэт — парус языка. Парус, который не чувствует под собой, не «держит» язык, а ложится под ветер, — лишь полотно, тряпье. И язык его либо рвет, либо полощет. Но и язык без паруса — воля волн.
Вы писали о том, что без воина автор невозможен. Воина — по отношению к языку.
А. Б. Не о воине — о битве, которая происходит на границе письменного и устного слова. Или на границе прозы и поэзии — это меня очень интересует. Переход.
Как одна старушка, вредная, из «бывших», говорила: ученые — что они знают? откуда солнце? — Приблизительно так можно сказать и про язык.
Почему-то основные вещи все время бывают пропущены. Например, акцент. Мы были империей, где русский язык существовал во всех республиках. Плохо, что не изучали русский язык провинции и не овладевали им как-то… хотя бы из вежливости. Это бы укрепило границы империи.