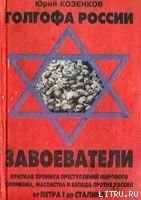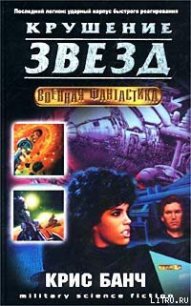«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - Кантор Владимир Карлович (е книги TXT) 📗
Шпет пишет: «Мы <…> выдержали натиск монголов! И какое у нас могло бы быть Возрождение, если бы <…> наши московские и киевские предки читали хотя бы то, что христианство не успело спрятать и уничтожить из наследия Платона, Фукидида и Софокла…» [1124] Нельзя здесь не отметить весьма важной неточности Шпета. Натиска монголов мы все‑таки не выдержали. Три века рабства Запад, как Русь, не знал. Понятно, что европейцу Шпету претят евразийские идеи об особом антизападном пути России. Поэтому он не только не говорит о географическом факторе, но практически полностью игнорирует все, даже плодотворные достижения евразийцев, которые достаточно доказательно показали мощное влияние монгольской традиции на русскую культуру. Я уже не говорю о том, что трудно вообразить хранящиеся по русским, неоднократно горевшим монастырям и храмам и княжеским теремам сохраненные свитки Платона, Фукидида, Софокла. Мне кажется, этот географический фактор был Шпету не очень внятен. Таким образом, он как бы дает современной России интеллектуальный шанс на преодоление «внутреннего монгольства».
5. Византийская проблематика
Но отчасти винит он в русском невежестве и Византию: «Византия не устояла под напором дикого Востока и отнесла свои наследственные действительные сокровища туда же, на Запад, а нам отдала лишь собственного производства суррогаты, придуманные в эпоху ее морального и интеллектуального вырождения» [1125]. В этом контексте часто говорят еще о растленной, слабой, косной Византии, «византизм» звучит часто как бранное слово.
Мне кажется, пора с большей трезвостью подойти к византийскому наследству России. Не Византия отдавала нам «суррогаты», как полагал Шпет, а просто Киевская и Московская Русь брали лишь то, что могли усвоить. Богатств духовных в Византии, как мы знаем, было много больше, чем получила Русь. В Московской Руси ситуация даже становится еще хуже. Родившийся на острове Корфу в конце ХУ века будущий знаменитый русский философ и богослов Максим Грек (имевший родовое имя — Михаил Триволис), четыре года проведший во Флоренции при дворе Джованни Франческо Пико делла Мирандола, племянника знаменитого философа, слушавший страстные речи Савонаролы и даже написавший о нем («Повесть страшну и достопамятну»), принявший постриг на Афоне в 1505 г., в 1515 г. попал на Русь, попытался повлиять на русскую жизнь, но был арестован и посажен в тюрьму, а потом сослан в дальний монастырь [1126]. Вот, пожалуй, и все. Иконопись и храмостроительство перенимались Новгородско — Киевской Русью, бывшей очевидной частью Европы, форпостом по отношению к кочевникам. В московско — татарской Руси византийские идеи перенимали неохотно, особенно после Флорентийской унии.
Зато достижения последних столетий Византии с успехом использовал Запад. Вряд ли поэтому можно говорить о «моральном и интеллектуальном вырождении» Византии. Современный австрийский культуролог Вольфганг Краус справедливо замечал, что от Византии Запад получил чрезвычайно много. Он вспоминает и грека Гемистоса Плифона, основателя Платоновской Академии во Флоренции эпохи Медичи, и то, что Собор св. Марка в Венеции является копией разрушенной Апостольской церкви в Константинополе, и то, что строительство Аахенского собора было инспирировано и отчасти осуществлено мастерами из Константинополя, и что такой европейский инструмент как орган был изобретен в Византии. И, скажем, орган стал органичной частью западноевропейской — католической и протестантской — культуры [1127], но забыт православной церковью, в том числе и в России.
Это прекрасно понимали и русские мыслители. Так, самый крупный наш «византист» Константин Леонтьев писал: «Обломки византинизма, рассеянные турецкой грозой на Запад и на Север, упали на две различные почвы. На Западе все свое, романо — германское, было уже и без того в цвету, было уже развито, роскошно, подготовлено: новое сближение с Византией и, через ее посредство, с античным миром привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которую лучше бы звать эпохой сложного цветения» [1128]. Не то было в России. О «бледных искрах византийской образованности» говорил еще Пушкин. Леонтьев еще жестче, показывая неприготовленность почвы: «Соприкасаясь с Россией в XVII веке и позднее, византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность и неприготовленность» [1129].
Начиная с Ивана III, с его женитьбы на племяннице последнего византийского императора, новое обращение Руси к Византии было ничем иным, как доказательством своего права на Римское наследство, на самостийный европеизм. Москву называли «третий Рим», но не «второй Константинополь». Иван Грозный возводил свое родство уже к Августу Цезарю. Слишком хорошо знали и понимали московские князья и цари реальную политическую слабость Константинополя, подкармливая после превращения Константинополя в Стамбул тамошних православных иерархов, практически полностью экономически зависимых отныне от Москвы. Спрашивается — кто на кого влиял. У России собственная история, и она отнюдь не рифмуется с византийской. Петр, принимая титул императора, подчеркивал, что не желает видеть в Русской империи продолжение Византийской, слабой и беспомощной. Впоследствии о создании Греко — Российской империи думала мудрая русская императрица и немка по происхождению Екатерина Великая. Константинополь был предметом поздних геополитических вожделений русских государственных деятелей и политизированных мыслителей вроде Достоевского и Тютчева, утверждавших, что Россия благодаря византийскому наследству есть вторая Европа. А русские мыслители славянофильского толка ухватились за византийское наследие в противовес реально европеизирующейся России, чтобы утвердить коренную отделенность России от Запада. И в том, и в другом случае это была чисто идеологическая спекуляция.
Но христианский, православный византинизм, который казался Шпету подлинным выражением православия, был для него непереносим, ибо, по его мнению, сыграл самую губительную роль в истории русской мысли. Именно византизм препятствовал проникновению в допетровскую Русь немецкого, так сказать, влияния (немецкое в этом контексте, разумеется, западноевропейское). Для подтверждения своей мысли он цитировал знаменитого хорвата Юрия Крижанича, приехавшего в Московскую Русь спасать славянство от немцев: «“Греки научили нас некогда православной вере; немцы нам проповедуют нечестивые и душепагубные ереси. Разум убеждает: грекам быть весьма благодарными, а немцев избегать и ненавидеть их, как дьяволов и драконов”» [1130].
5. Отношение к христианству
На Западе умеют продумывать свой опыт. Именно поэтому в эпоху Возрождения Запад сумел вернуться к Античности. Античность прорастала сквозь христианство и учила Западную Европу думать самостоятельно. В этом видел Шпет основное отличие европейского типа мышления от восточного. В этой позиции я, по крайней мере, вижу очевидный родовой признак русского европейца, желавшего видеть в России русскую Европу, в силу чего критиковавшего неевропейские, азиатские начала России. Другие русские европейцы (типа Франка, Степуна, Вейдле, Федотова) думали, что спасение и Западной Европы, и России в идее надконфессионального христианства, которое они пытались на манер Николая Кузанского, Пико делла Мирандолла, Пушкина и других мыслителей, воплотивших в себе дух Возрождения, утвердить как основу преодоления европейского кризиса (в полемике со шпенглеровским «Закатом Европы» и пр.). В отличие от них Шпет видел причину кризиса именно в христианстве. Он писал: «Кризис культуры теперешней есть кризис христианства, потому что иной культуры нет уже двадцатый век» [1131]. Думая о возможном Возрождении в России, которое еще должно наступить, Шпет видел его как раз в преодолении христианства, ибо именно как преодоление христианства он понимал Возрождение. Так это или не так, другой вопрос.